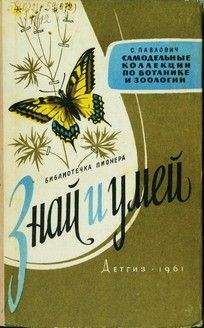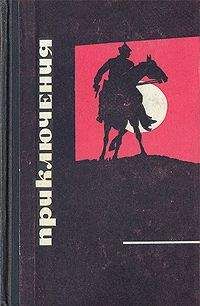Виктор Потанин - На вечерней заре
— И река у вас есть?
— Ты че! Поди, через мост ехал, на воду плевался?..
— Ехал, Антонина Ивановна!
— Ну вот, дознались, Валерей Сергеевич, — последние слова она произнесла медленно, с остановкой, потом совсем замолчала, задумалась. Но, видно, трудно было молчать.
— Ты че меня Тоней не называть? То ли трудно тебе, тяжело? Ничего, будет время — само придет. Я — баба легкая, не сердитая, и имя тако же легкое, тонко-тоненько…
— Магазин где у вас, Антонина?..
— Ну че ты, че ты — Тоня, Тоня я. Честно слово, как неродной. Давай деньги, сбегаю за покупками, только водки не покупаю. Нет, Сергеевич, нет и нет…
— Что вы, вас затруднять…
— Надо ж, надо ж, каки мы вежливы! «Что вы, что вы, вас затруднять!» — она передразнила его громким веселым голосом, подмигнула и подняла вверх оживленные глаза.
— А ты бы по-простому, по-нашему: «Ну-ко, Тонька, шаг — туда, два — обратно».
— Поди, далеко?
— Ох, смешишь ты, Сергеевич! Я ведь шагом не хожу, все бегом, как по воздуху. Я зарядкой занимаюсь, Сергеевич!
— Неужели?
— Неужели в самом деле, честно слово — не пойму, — она засмеялась, откинула голову. Видно, весело, что поразила и сбила с ног. А он смотрел, смотрел на нее, приглядывался, и все кружилось в нем, наливалось радостью. Что-то было праздничное в ней, забавное: то ли простоты вдоволь и мало ума, то ли, наоборот, что-то хитрит, заплетает веселое.
— Я и колесо делаю. Вертушку кручу! Тебе в армии, наверно, показывали?
— Знаю, знаю, показывали, — он уже еле сдержался, но смеяться боялся — еще заплачет, обидится, соберется в комок. «Но откуда она? Откуда взялась такая маленькая, веселая, с карими подвижными глазками, с пучком поседевших волосиков, завитых, скрученных в тугой узелок?»
— А ты не жалей Тоньку, приказывай. Я баба веселая, легкая, сухая палка, бараний вес. Я и в городе жила, побывала. Городских сухарей попробовала, ишь че с их расплылась.
— Долго жили там?
— Долго, долго, Сергеевич. У нас квартира на втором этаже была, так я на третий все пробегала. Разбегусь, бегу да убьюся. Да прямо в дверку чужую стукнуся. Подь ты к черту, — корю себя, — то ли птичка ты, то ли бабочка семикрыла? Куда летишь, спешишь, поди, никто и не рад.
— Вы с мужем жили?
— С мужем, да, — она на минуту задумалась. И снова осветилось лицо.
— Мой-то из военных был, с золотыми погонами. Капитан, может, даже майор.
— Может, генерал? — он засмеялся, не вытерпел, но сразу смолк, в руки взял себя.
— Зачем прибавил, Сергеевич? Ты видал генерала-то? Его, поди, не обхватишь по талии, да и росту отмеряно. А мой — кого — такой же легонькой, суховатенькой, от него и научилась гимнастике. По утрам соскочим, оботремся, обмоемся, потом уж на голове стоим.
— Оба стоите?
— А чем нам, Сергеевич! Я вначале — из угождения, потом вижу — на пользу мне. Здоровье-то не купишь у нас. Хочешь, покажу упражнение?
— Потом…
— Закругляюсь, Сергеевич. А то надоели слова да речи, надо и за стол.
А потом, за столом, ему стало опять покойно и весело, как будто приехал к родной матери на каникулы, и кругом — все родное, домашнее, — и оттого тепло и покой. А она все смотрела на него устало и ласково, как будто бы видела и желала ему вечной радости, многих лет.
Но Тоней так и не смог называть ее, как-то не получалось. Стеснялся, да и временами она выглядела совсем старой, уставшею, не помогала, видно, гимнастика, а может, просто давила жизнь.
Очень любила ходить по грибы. Правда, редко приходилось с корзинкой — в колхозе время всегда горячее. Работала много — то дояркой, телятницей, то замещала заведующего на ферме, — вставала рано, ложилась поздно, так что какие уж тут грибы. Но все равно выкраивала свободный часок. Лес-то рядом, и ноги свои. Да и любила эти лесные часы. Да и как не любить их, березы…
Валерий Сергеевич вздохнул глубоко, отвернулся. По дороге кто-то ехал на лошади. Лошадь весело фыркала: видно, попадал в ноздри сухой песок. Поравнялась телега, в ней сидела Валентина Корюкина — школьный завхоз. Он не любил эту женщину, избегал. Но сейчас — делать нечего — носом к носу…
— Пошел к сыночку, Сергеич?
— Туда! — он ответил отрывисто и замедлил шаг. Но телега тоже замедлилась, и он с раздражением закурил.
— Все собираюсь к вам да наглаживаюсь, поглядеть ваши ковры, гарнитуры…
Он опять промолчал, только в щеки бросилась бледность. Но она ничего не заметила, лицо веселое, круглое, и руки такие же круглые, толстые, они цепко сдавили кнут.
— На своих ножках нынче? Надоело на «Жигулях»?
— Надоело… — И снова затих разговор. Но ей, видно, не привыкать. Опять веселая:
— Говорят, вы втору коровенку заводите да пустили бычка?
— Ну и что?
— А я хочу к вам в работники! На полставки возьмешь?
— Мне сейчас не до шуток! — и он посмотрел долгим взглядом на девочку, и у завхоза изменилось лицо. Но девочка, казалось, не обращала на них никакого внимания, еще сильней присмирела, все мысли в себе.
— Худо тебе, Нинка, наступит без матушки! Ой, худо — не приведи. Да не вернешь…
— Кого? — спросил машинально учитель.
— Не вернешь нашу Антонину Ивановну. Да хоть бы не така смерть… — и Валентина поднесла к глазам носовой платок.
— Тебе-то что плакать, страдать… — оборвал он ее громким сердитым голосом и сразу пожалел, что вспылил. Не хотелось ругаться, еще больше расстраиваться, только хотелось побыстрей от нее отделаться.
— Ты мне не указывай, Валерий Сергеич! Ты мне рот не затыкай белой тряпочкой… Я вот правду возьму да выпалю.
— Давай, давай, — он махнул устало рукой, отвернулся. Им овладели апатия, безразличие, видно, сказались усталость последних дней, напряжение, и он закрыл глаза. Когда открыл, то сразу же в упор увидел печальное лицо девочки и злые, напористые глаза Валентины. В них было все: злая боль, осуждение и еще большое-большое лукавство. Но все равно он решил отмолчаться, не связываться, зато она не молчала:
— Гарнитуры-то еще не все в Кургане скупили? Когда-нибудь завалит вас этими досками… Прямо с головой и завалит.
— Какими досками? — он удивленно посмотрел на нее и опять нашел силы сдержаться. Ему хотелось уже совсем забыть про нее, но Валентина не умолкала. Только глаза ее стали проще, добрее. Может, стало стыдно, неловко, что наговорила ему много тяжелого, лишнего, и теперь пробовала пошутить даже, перевести разговор на смешное.
— Ну, ладно, Сергеич! Не переживай ты, не обижайся. А то идешь — губу на локоть, а с чего бы? Да плюнь ты на меня, на таку нахальну бабенку! Все плету не свое, не наше, а ты — к сердцу да к сердцу! А то бы размахнулся да ударил меня, поучил по-мужскому, — она засмеялась и, видно, ждала ответного смеха. Но он даже не улыбнулся.
— Я не хулиган…
— А ты похулигань, Сергеич, тебе можно. Ты — человек большой, образованный, а я — кого: три класса да два коридора. Мне уж с рубля-то не сдать тебе по порядку…
— Не хвастай… — он еще хотел что-то добавить, но она перебила, не слушала, опять начала тараторить:
— Сколько матушка-покойница приговаривала: учись, Валентина, не моргуй книгами, пригодятся, а я все — зачем, неохота. А та опять: учись, то затопчут. А я отвечаю ей: я к забору прижмуся. Тогда в забор вдавят, — это мать-то опять стращат. А выходит, что не стращала — жалела…
Пока она говорила, он стал успокаиваться, но все равно раздражение не смолкало в нем, да и надоел ее голос. Он начал покашливать: мол, хватит, поговорили уже, теперь пора помолчать. Валентина заметила это покашливание, истолковала по-своему. А может, хитрила, у ней хватит ума. А потом опять начала:
— Простудился где-то, не поберегся… А че же, Сергеич, тебе жалко, поди, Антонину? Ох, поди, жалко! Как она болела о тебе, как родного брата держала. И помогала тебе перво время — вся деревня знат, и я знаю… А ты, Нинка, не наводи ухо, не обязательно… — она взглянула на девочку, что-то еще хотела добавить, но только головой покачала. Девочка сразу побледнела и совсем низко склонила лицо.
— Не надо про маму… Я пойду вперед, тогда говорите.
— Зачем, Нина? Иди рядом со мной, — прервал быстро учитель и сразу же закурил. Валентина чему-то обрадовалась, глаза засмотрели вразброд:
— Хорошо сказал! Честно и добросовестно… У нас, Нинка, нету секретов.
— Ладно! Нина поняла уже, — опять рассердился учитель и начал покашливать. Его ладони то сжимались, то разжимались…
— Все, все. Мы закончили. А ты точно простудился, Сергеич, — Валентина хмыкнула и закусила губу. — Хлипкий пошел народишко. Я в войну вон до Покрова босиком бегала — не в чем дак. Так доброй обуинки и не нашивала. Дегтем пятки натру да подошвы, теперь хоть на снег ступай, хоть на стекло — нога не чувствует… — ее голос стал мирный, податливый, но учитель молчал, и это ее удивляло.