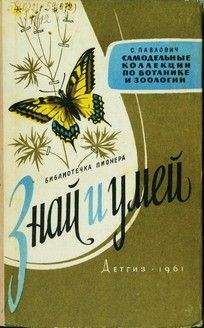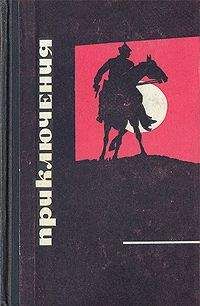Виктор Потанин - На вечерней заре
Он бы долго еще слушал ее голос, перебирал его в памяти, опускался в самую глубину его, погружался весь без остатка, отрешась от этой дороги, от девочки, — но его потревожили, разбудили. Опять потревожила девочка.
— Пойдемте быстрей! Ползем прямо… — в ее голосе уже звучало требование, и он удивился.
— Ты что кричишь на меня? Я иду, не стою.
— Кто так идет? — сказала нарочно громко, чтобы услышали. Ему стало обидно: «За что она? И так каждый день с ней. Привязалась, липучка». И тут же оборвал себя — зачем сердиться, у нее горе, расстроена, ей не хочется уезжать. Но на словах не сказал ничего. И даже обрадовался, что сдержался.
В лесу было душно. Солнце поднялось уже высоко, и его прямые лучи упирались прямо в листву и жгли нестерпимо. Деревья не защищали. У некоторых берез свернулся, пожелтел лист, как будто дохнула осень холодным инеем и погубила листву. Но это сделали суховеи. Они залетали с дальних южных пустынь, а нынче залетали особенно часто: все лето стояла жара, и этот зной измучил людей, и они уже ни на что не надеялись. Вчерашний дождь принес большую надежду. Эта надежда была на новый дождь, и сейчас учитель опять посмотрел на небо. Облака были в правой стороне, откуда чаще всего поднимался ветер. Сейчас тоже дул ветерок, но солнце жгло уже подневному, и ветерок не освежал, а, наоборот, обжигал щеки, — и он подумал, что в лесу, наверно, все равно лучше, чем в поле. Там — настоящее пекло. Сразу мысли метнулись к сыну. Их класс теперь на последней прополке…
— Мы к маме в последний раз? Или можно…
— В последний! — ответил он твердо и поднял голову. Но все равно та продолжала смотреть на него, глаза напряглись, не мигали. И он опять повторил:
— В последний, в последний…
Когда повторил, сразу стало плохо и стыдно, но он не знал, почему плохо с ним, почему очень стыдно, почему не мог взглянуть прямо ей в глаза, не мог заговорить с ней, не мог даже вздохнуть свободно, всей грудью, словно кто-то за ним подглядывал, запрещал. Неужели из-за нее самой, этой Нины, так стыдно, так тяжело? Неужели из-за того, что он повезет ее завтра в город и там навсегда оставит? Но ведь любой на его месте решил бы так же!.. Но если не поэтому, то почему? Почему?.. Ему делалось все хуже, все беспокойнее, потом заныли виски от тупой расслабляющей боли, и скоро боль эта захватила всю голову, и он зажмурился. Учитель знал, что это заныли нервы — в школе разве сохранишь их. Только одно утешало, что все это скоро кончится, что сегодня они идут в последний раз на могилу. «В последний, конечно, в последний», — повторил опять про себя, чтобы в чем-то оправдаться и успокоиться. И вдруг слово это обожгло своим печальным роковым смыслом, и опять та, роковая, печальная, встала в глазах. Но теперь уж совсем не мог он бороться с видением, не мог переключиться на что-то хорошее, успокаивающее, и вот уже полетели секунды, минуты в этом видении, сейчас уже ничего не исправить. Да и как исправить, если знал, понимал уже, что теперь не забыть ее, не забыть и эту упрямую девочку — дочь ее. «Но все не верится, нет, не верится… Где ж теперь она, где?..» Он повторял про себя те вопросы, которые повторяла, несла в себе девочка, но он не знал об этом и не догадывался. Только одно теперь знал он, в одно поверил, признался, что спокойная жизнь его кончилась и все хорошие дни прошли, что теперь ему самому надо решить что-то о своей собственной жизни, решить такое же большое, огромное, как все муки его, все сомнения. И чтоб не терзаться еще, не мучиться — он погрузился снова в свое видение. И снова лицо ее, совсем живое, веселое, завладело им, подчинило, да он и сам желал этого, потому и сбылось.
— Ой, не могу, Сергеич, ударь меня по спине, Сергеич, так смешно вышло, прямо грузди в январе выросли. Ты не поверишь в грузди-то, а в мое-то поверь. Ну вот, ужимка пропился до нитки, и все уж ему отказывают, и ты б такому взаймы поморговал. Он у меня и повял. Да совсем несчастным прикинулся, да в профком. Пожалейте, мол, в положенье войдите — жена родна померла, Антонина Ивановна. Хочу в хорошо одеть, а денег нет на хорошо… Ну че, повздыхали, погоревали, обещали навестить, денег выписать, а пока что четвертну сунули. Добрых людей много. А он взял деньги, не отказался да — ко друзьям. А ко мне пришли из профкома-то. Ну вот. Зашли, потопталися — у вас, говорят, горе большое — покойница. Я гляжу на них — какая покойница? Делать нечего, рассказали, что пришел к ним ужимка, расплакался — хороню, говорит, жену, Антонину Ивановну. Как стояла я, так зашаталася. Потом говорю — я сама Антонина Ивановна. Но жива пока и надеюсь пожить. А сама как зареву, зареву, они тоже побледнели все. А потом — как да как? А вот так, говорю, — муженек у меня интересной, хотите — продам? Они снова — мы накажем его, накажем. Неуж живых хоронить? Нет, говорю, отступитеся — муж с женой разберутся, а придет ко мне неминуча, все равно схоронит, не убежит. Только через годик мне самой пришлось хоронить. Говорят, что желудок увел его. То ли рак, то ли сплетня на рак? Теперь все одно пишут, а, поди, сроду друго…
— Валерий Сергеевич, можно быстрее? Быстрее!..
Он услышал имя свое и вздрогнул, пришел в себя.
— Что, что?
— Пойдемте быстрее, — попросила девочка. Глаза ее горели колючим, и они уже не просто смотрели, а обвиняли, эти глаза. Она, видно, уже еле сдерживалась, но он не видел ее нетерпения, да и как видеть и замечать ему, если все еще плыл, купался в своем радостном сне.
— Прошу вас, быстрее! Мы же в последний раз… Вы обещали…
— В последний… — повторил за ней машинально, и вдруг сознанье вернулось к нему. «Почему командует? Зачем такой голос, глаза?..» Сейчас он хорошо увидел ее глаза, и они оттолкнули и поразили его. «Неужели думает, что у ней есть права? Есть права на меня. Но кто я ей, кто?.. Ну, пусть она дружит с моим Сережей, пусть с детства они — не разлей вода. Ну и что из того?..» И чем больше так думал, тем сильнее обижался на девочку. И хотелось уж быстрей увезти ее в город, чтобы больше не видеть, не замечать. А потом вдруг его осенило другое. И пришло оно незаметно, потому и застало врасплох. Он только посмотрел на девочку сбоку, вгляделся — что-то, мол, другое стало лицо, — и сразу замерло сердце, потом так же внезапно забилось, но боль не прошла. И он всматривался снова и снова в ее светлые воздушные волосы, в ее шейку, желтую от загара, похожую на тонкий желтенький колосок, в ее глаза, в которых так и осталась с рождения прозрачная пленочка, она, видно, хранила, защищала глаза от беды. И все это тоненькое, слюдяное и зыбкое вытягивалось в одну бесконечную и родную ниточку и вызывало страдание, и только одно теперь мучило: неужели он порвет ее, эту робкую ниточку? Неужели от рук его станет гибнуть этот живой колосок? Но почему гибнуть, да почему же? Там, в городе, с ней будет коллектив, воспитатели, они и поймут, и полюбят, и заменят семью… И чтоб хоть немного отвлечься, утешиться, стал разглядывать облака. А мысли были новые, какие-то странные, и они неприятно поразили его. «И куда они вечно спешат? Кто их гонит? Зачем?.. И где конец небу и где начало? Неужели после смерти мы все уходим туда, на это самое небо?.. Смешно — на небо…» Он усмехнулся и опустил голову. Глаза щипало, точно перед слезами. «Но о чем плачу, вот ей бы плакать, а мне-то?» Опять покосился на девочку, и снова ее тонкая шейка потрясла его, и вдруг, как по чьему-то приказанию, какая-то неведомая сила подхватила и понесла его. Она понесла к самому началу, к истоку, где начался этот живой родничок. Он так зримо вспомнил тот вечер, так ясно, отчетливо услышал каждое слово ее, движение, будто дело было вчера еще, будто не прошло этих многих и трудных лет.
Она постучала тогда рано, так рано, что он испугался. Но зашла она смирненько, потихоньку и сразу устало опустилась на стул. Он совсем испугался усталого лица, ее глаз, робких, просительных — значит, пришла с горем и теперь мнется, выжидает момент. Но она заговорила о легком, о постороннем и как будто развеселилась и отвлекла его.
— Че давно не заходишь? А я упражнение новое разучила! Заходи — покажу.
И он улыбнулся, от души отлегло.
— Заходи… — повторила.
— Я занят, к урокам готовлюсь, мне некогда.
— Тогда чайком напои.
Он налил ей чаю, наложил мятных пряников. Ей понравился чай, а до пряников не дотронулась.
— Че, Сергеич, я узнала… Ты дом покупаешь?
— Покупаю, Антонина Ивановна.
— Эх, ты, мужик! Так Топей и не назвал старуху, видно, сильно глубоко я состарилась. Скоро съедешь от меня — только и видела, — она нехорошо засмеялась и прикусила губу. И вдруг переменилась вся, вспыхнула. И распахнулись глаза во всю ширь.
— Я, Сергеич, дочку решила взять. Вчера в город поехала, сразу в больницу пришла. Там у меня есть родня мужева — хирург Раиса Степановна. Она меня жалела всегда и теперь пожалела — возьми, говорит, девочку или мальчика. У них есть вот такие девочки. Родит женщина, заявленье напишет, что не нуждается в своем дитеночке, его и оставляют в больнице. Есть таки у нас матери — оторви им хвост. Потом государство берет на себя и воспитывает. Вот како у нас государство ласково… Че, Сергеич, одобряешь меня?