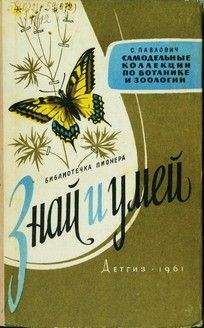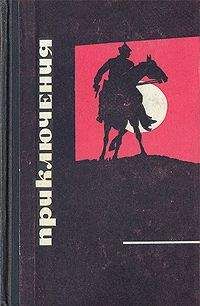Виктор Потанин - На вечерней заре
— Ночь-то какая, Коля! Не могу надышаться… — Это говорил чужой, не отцовский голос. Афанасий вспоминал его, ловил что-то в памяти, но так и не вспомнил. — Ночь-то какая досталась мне! — опять восхитился голос. — Главный мой наказ тебе будет один. Ты слышишь?
— Да слышу, — сказал чуть слышно отец, и Афанасий сразу представил его глаза, даже тот хохолок представил. И опять — жалко и горько. Так горько…
— Если умру там, Коля, то в городе не оставляйте. Привезите под наши березки… А медали мои фронтовые, все письма передай в школу, директору. Ребятишки меня любят, я у них выступаю. — Голос то поднимался, то падал почти до шепота. Наверно, мешало волнение. Потом совсем голос остановился.
И сразу — отец:
— Вот что, Федя, дорогой Федор Иванович! Не к лицу тебе панихиду петь. На фронте я такого не знал за тобой, не знали и командиры наши… Съездишь туда и вернешься здоровый. У Афони моего рука крепкая. У него еще никто никогда не помер. Никто, Федя, никто!..
«Во дает, старик! — подумал Афанасий с усмешкой. — Ну, какая там у меня рука? Чего он придумал?»
— Значит, согласился сын на меня?
— На тебя, на тебя, — передразнил отец. — Разговор-то вышел тяжелый. Ну, я сперва его попытал, про другого врача позакидывал — ну и обидел, конечно. Убежал Афоня куда-то, переживает. Не доверяешь, мол, мне, не веришь…
— Зачем ты, Коля? Зачем ты так по-худому? И сын все же, одна с тобой кровь…
— А я ему записку оставил. И наказал, чтобы сам тебя оперировал. И чтобы все по-хорошему. На все, понимаешь, сто.
— А не откажет? — опять спросил голос и замер. И в этот миг ударили соловьи. Они сорвались, точно с горы, и запели с шальной удалью, бесшабашно, точно были теперь на свадьбе, на какой-то счастливой гулянке — и забыли обо всем, обо всем, и только пели, пели и пели.
— Слышишь, Федя? Ты слышишь?
— Слышу. Это птички меня отпевают.
— Да брось ты, Федя…
— А он не откажет?
— Нет, ни за что! Наоборот, разозлил я его, обидел, а он в обиде-то сильно хорош. Так отделат тебя, что приедешь, как после баньки…
— Приеду, конечно, приеду. И стану тут помирать.
— Да брось ты свою чихню! Афоня мой не позволит. И не таких, поди, выручал!
Афанасий сидел, как связанный. И было то жарко, то холодно, то хотелось курить, то хотелось пошевелить ногой — она затекла совсем, но он боялся даже дышать. А в голове билось только одно. Только одно — так вот о чем отец писал за столом! А соловьи кричали теперь почти у самого уха. Но это вода виновата. Это по воде летят звуки, это по ней они несутся с такой быстротой. И летят, поднимаются выше, все выше, и там от них — одни брызги, одни уж осколки, и они надают в воду и погибают. И тут же родятся, и все снова, снова и снова…
— Ох, выпевают, — сказал отец и рассмеялся.
— Тебе весело, а я не могу. Нехорошо мне.
— Да брось ты, Федя! Сынок этого не допустит. Он из земли подымет, прямо ногтями выцарапат.
— Ты не говори — понимаю. Каждому свое. Мой тоже вчера приехал, как в кол колонул — в район, говорит, забирают. А я отвечаю: думай, у тебя повышенье, не все председателем-то колхоза. Но только за тобой не поеду. Здесь родился, здесь и помру. И ты меня не трогай, как пешку. Я тебе — не игра…
— Правильно! Нельзя тебе ехать.
— Что правильно?.. Вот сынок твой посмотрит и скажет — опоздали, товарищи. Он уже давно тебя съел…
— Кто он-то? Да кто он, Федя?! Да никакого рака нет у тебя. Иди на операцию с легкой душой. Сынок мой не ошибется.
Афанасий улыбнулся в своей засаде. «Ну-у, родитель, прямо векселя раздает», — к стало легко. Голова уже не болела, и дышалось свободно, и обида, та большая обида все уходила куда-то и уходила. И он опять зажмурил глаза, и все тело стало исчезать, исчезать куда-то и — полетело, как в полусне. И он бы, наверное, задремал, но снова ожили голоса.
— Ты меня, Коля, не пеленай. А хоть бы и что-то… Ведь пожил я, кое-что повидал… Вон как птички кричат. И чего они выпевают…
— А я тоже заслушался. И не надо бы там березы рубить. А то в войну, говорят, не рубили, а теперь, как одурели…
— Не ворчи, Коля. А то много ворчим все, состарились.
— Ну ладно. Ты состарился, а я не состарился. — Отец почему-то вспыхнул и постучал деревяшкой. Под ней хрустнула ветка — и отец сразу одумался.
— Ты не обращай на меня. Какой-то горячий я. То ли нервишки…
— Я и не обращаю. Давай-ка присядем, а то я устал. Вот и газету припас я, на газету и сядем.
— Ох, Федя, Федя. Ты у меня вечно за няньку. Кто у нас ботинки-то в прошлый раз покупал?
— Ты, Коля, ты!
— Ну, хорошо, вот придешь из больницы, так сразу тебя в обувной и пошлю, — отец засмеялся и зашуршал газетой.
— Ты меня, Коля, не утешай! И не старайся. Я все понимаю, и все может быть. Так что давай-ка на всякий случай обнимемся.
— А я не хочу, не хочу, — подал снова голос отец. Но потом, видно, не выдержал и притянул друга за плечи. Афанасий слышал, как они тяжело задышали, как отец притворно заохал, как его друг запокашливал — и опять успокоились. И снова ожили птицы. Они кричали теперь протяжнее, тише, наверно, устали. По воде шли дороги, дорожки, луна сияла весело и была точно живая.
— Господи, кто же это все придумал да на землю поставил! Вот живешь, живешь — и все мало и все не хватило. А ведь не в масле же мы с тобой, Коля, катались. Не в масле.
— Ну вот, заворчал.
— Э-э, нет, не ворчу. А вот ты родного сына обидел. Каку-то записку выдумал! А до этого, поди, накричал на парня…
— Не надо, не трави душу. Мне и так что-то муторно.
— Вот-вот, а то больно горяченький… И все же, Коля, давай встанем на ноги да по-фронтовому обнимемся. Помнишь, как в сорок третьем-то…
— Помню, помню, сержант… — Отец встал медленно, а тот уже был на ногах. Афанасий не выдержал и приподнял голову. Отец лежал у Федора лицом на груди, и лопатки у него подрагивали.
— Ну, хватит, Коля. И на всякий случай — прощай…
— Ты такого не говори! — Отец сразу отпрянул от него и застучал деревяшкой. — Не говори при мне! Не позволю!
— Ладно, ладно. Только есть к тебе одна просьбишка — давай походим по берегу да помечтаем?
— А зачем?
— Ты не бойся, не вздрагивай. Дело-то будет маленькое. Есть тут недалеко полянки, две полянки мои. Там я в молодости и оставил себя. Там и жену свою повстречал… Сегодня с тобой побродим, а завтра уж — по больницам.
Они прошли в двух шагах. Еще немного прошли — и отец заворчал:
— Нет, давай остановимся, что-то сердце покалыват. Как шагнешь — прямо шипом.
— Вот-вот. Меня гонишь в больницу, а сам того хуже. Вот приеду — поговорим.
— Приедешь, Федя, приедешь! — сказал отец возбужденно и засмеялся. — Ну, показывай давай, где поляны-то?
— А вон, Коля, вон! Лежат под луной да поляживают.
— А чего им! — И отец зашагал вперед.
Афанасий поднялся из-за укрытия. Они были уже далеко. И шли теперь обнявшись. Потом их спины слились в одну, и он услышал голос отца:
— По Дону гуля-я-ет… — И сразу ему подпел протяжный сильный басок:
— Казак молодо-о-ой…
Афанасий теперь стоял в полный рост, улыбался. Стало легко, как в детстве.
ЛЕГКАЯ
Говорят, к сорока годам в человеке что-то стихает и успокаивается, и все чувства, желания входят в свои берега. А если разобраться, то много ли сорок лет? Просто жизнь так коротка, быстротечна, что надо ловить свое счастье, пока еще можно, пока в тебе бродит горячая кровь. А если она уже не горячая, если все прошло, миновало — и вот уж рядом печальный закат… Об этом и еще о чем-то длинном, тяжелом думал школьный учитель Валерий Сергеевич и молча курил. Сигарета не успокаивала, да и мешала девочка. Она сидела напротив и смотрела в окно. Глаза были сухие, настойчивые, таили обиду.
— Пойдемте к маме… В последний раз.
Он вздрогнул от ее голоса и распахнул створку. В комнату залетел легкий воздух. Запахло мокрой зеленью, огурцами. Учитель вздохнул глубоко и нахмурился. Потом вспомнил девочку.
— Нина, чего тебе?
— Пойдемте к маме! Я боюсь одна на могилу…
Он поежился, точно от холода, закурил. Струйка дыма казалась голубенькой посреди большой комнаты. Таким же голубым и веселым переливался хрусталь, запертый в гладком дубовом серванте, даже ковры на полу и по стенам тоже оделись в голубое, зеленое — это солнце потревожило их. А учителю снова грустно. И снова в глазах родилось больное и темное, и чем сильнее вглядывался в эту девочку, тем больше делалось этого темного, и он опять сползал, погружался в свою тяжелую думу.
— Пойдемте?! — требует девочка.
— Ну, хорошо.
Он снова курит, вздыхает, а девочка хмурится, молча ждет у двери.
На улице солнечно и свежо. Ветерок какой-то обволакивающий. Он залетает под воротник, под рубашку и скользит, трогает тело, словно бы сам живой. «Эх, какой воздух!» — не может сдержаться учитель и поднимает высоко голову. В такой день хорошо оседлать машину и лететь в дальние леса, перелески, где шевелятся, поскрипывают под листьями белые грибы и синявки, где все дышит тишиной и покоем, и усыпляет, укачивает этот покой. Девочка идет рядом, смотрит под ноги.