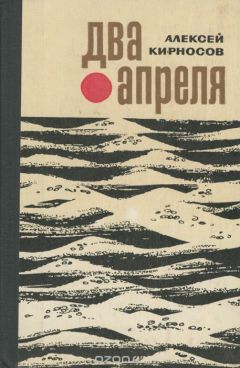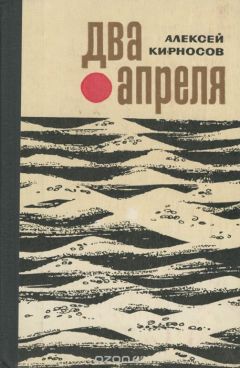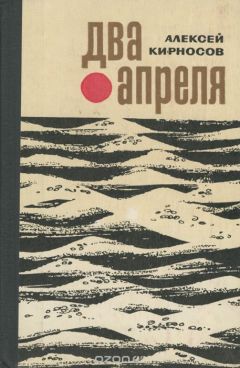Алексей Кирносов - Перед вахтой
Тебе нечего объяснять, в какой любви к нашей воспитательнице мы росли. Я и посейчас ее вижу, добрую, не умеющую по-настоящему сердиться. Тетя Валя отложила вязанье, взяла лист, услужливо поданный пухлым мальчиком, и, держа его двумя пальцами за краешек, показала нам всем. На гадком листе извивалась косая, синяя, ушастая и носатая, безобразно оскалившаяся Баба Яга. Я подумал, что это еще за новый Тоник появился в группе и не набить ли ему лоб. Пухлый мальчик победно крикнул: «Вон у него в руке синий карандаш!»
И указал на меня пальцем.
Сидевшие рядом с треском отодвинули свои стулья.
Я перебрал в памяти всю свою пятилетнюю жизнь день за днем и час за часом. И вдруг я понял, что пухлый мальчик соврал, что это он сам нарисовал и сказал на меня, чтобы у меня отобрали синий карандаш и чтобы я никогда больше в жизни не нарисовал море.
— В пять-то лет…
— Вот именно… Обида захлестнула меня по самое горло. Я перескочил через стол и кинулся на пухлого мальчика. Меня наказали, но не за карикатуру, а пухлый мальчик больше не появлялся в группе. — Антон улыбнулся. — Казалось бы, правда восторжествовала, но что — то во мне с той поры засело вредное.
— А не может быть, что Колодкин подговорил Дамира? — спросила Нина. — Ведь говорят, что мужская дружба…
— Не может быть. — Антон прикрыл ей рот ладонью.
— Да, не может быть, — согласилась она. — Я видела Колодкина.
— А я с ним дрался.
— Когда тебе идти? Уже двенадцатый час.
Сознаться, что в самоволке, что избил старшину роты и теперь в перспективе дисциплинарный батальон?.. Он заставил себя улыбнуться, убедился, что улыбка не спадает с губ, как спадают вымученные улыбки, и тогда поднял лицо:
— Не думай об этом, у нас в руках сосуд вечности.
— Болтушка, — сказала она. — Ты же военный.
Он вернулся в училище без пяти час, и его ждали.
Командир роты молча принял у него увольнительную записку, молча положил ее в пустую папку. На папке была черная надпись «ДЕЛО №». Антон, ужасаясь молчанию, стоял перед командиром роты и ждал хоть слова.
— Идите спать, старшина второй статьи Охотин, — усталым голосом сказал Многоплодов. — Ну и заварили вы похлебку…
В освещенном синей ночной лампочкой кубрике Антон нашел койку Игоря Букинского, тронул его за плечо. Игорь проснулся.
— Ну как? — спросил Антон.
— Труба, — сказал Игорь.
7На утреннем построении старшины роты не было. Его обязанности исполнял помощник командира первого взвода. Те, до кого еще не дошли слухи, удивлялись: где мичман? Их осведомляли, и над строем облачком парил шумок. Игорь Букинский шепнул Антону:
— Мичман ковылял до самого лазарета.
Со второй лекции Игоря вызвали к командиру роты, и Антон понял, что началось следствие. Мир сузился, отяжелел и придавил его к стулу. Сознание работало на одну тему, он не мог отвлечься, и даже слушать преподавателя было ему не под силу.
Никто его не расспрашивал, но все знали, что он ударил старшину роты, и все знали, что за такое преступление полагается военнослужащему. Его не тревожили сочувствием, лишь оказывали мелкие знаки предупредительного внимания. Если много людей сразу решили быть тактичными, тактичность их будет самого высокого ранга, потому что каждый постарается перещеголять в этом соседа.
Только Костя Будилов, комсорг, в перерыве отвел его в угол:
— Кто виноват? Ты или мичман?
— Начальство разберется, — сказал Антон — Согласно уставу.
— Слушай, осел, я сам знаю уставы! — рассердился Костя и, положив руку ему на грудь, сгреб в кулак тельняшку. — Я спрашиваю твое мнение, по — человечески, кто виноват — ты или мичман?
— Он, — сказал Антон.
— За что ты его?
От Кости-то чего скрывать, подумал Антон. И рассказал.
— Гус-сар-р-р… — прорычал Костя. — Ну, не трусь. И до конца дня не присутствовал на лекциях,
После занятий объявили построение, и рота долго стояла в тишине, ожидая. Из-за поворота классного коридора появился начальник строевого отдела полковник Гриф. Многоплодов, подбежав, отдал ему рапорт. Гриф, как всегда невозмутимый, прошелся вдоль строя, осмотрел каждого, повернул, остановился на середине, сказал:
— Здравствуйте, товарищи курсанты.
Рота прокричала ответ, и снова установилась тишина. Гриф достал из кармана несмятый лист бумаги и, держа его далеко впереди глаз, стал читать:
— «Приказ начальника училища… Вчера, «двадцатого декабря, курсант второго курса старшина второй статьи Охотин нанес оскорбление действием курсанту пятого курса мичману Сбокову…»
Странно, почему не сказано, что он старшина роты, подумал Антон, уловив в тексте некоторую туманность.
— «В тот же день, — продолжал полковник голосом, которому иной актер позавидует, — старшина второй статьи Охотин совершил опоздание из увольнения на один час пятьдесят минут. Приказываю… — повысил голос полковник и сделал паузу. За нанесение оскорбления действием старшему по званию, учитывая прошлую безупречную службу, старшину второй статьи Охотина разжаловать в рядовые. За опоздание из увольнения курсанта Охотина арестовать двадцатью сутками простого ареста с содержанием на гарнизонной гауптвахте. Приказ объявить всему курсантскому составу училища».
Гриф уставился на Антона жестким взглядом, а тот не опускал глаз и смотрел на полковника с вопросом, недоумевая, почему так быстро и так легко его наказали.
Спустя полчаса, сидя в кабинете полковника в том же кресле, упругую мягкость которого он ощутил полтора года тому назад, и слушая ровный и громкий голос, Антон окончательно убедился, что не перевелись на свете мудрые люди и флотская судьба его спасена.
— Мичман виноват морально, — говорил, помимо прочего, полковник Гриф. — Но вы, Охотин, полностью виноваты дисциплинарно. Нельзя было пить и оставаться на ночь у девушки. Хотя мичман и уволил вас на ночь и сам подпаивал, не отпирайтесь и не краснейте, мне все известно от старшего лейтенанта Трибратова, которого тоже ждет выговор… И уж ни в коем случае вы не должны были бить мичмана Сбокова, вашего бывшего старшину роты, хоть он и назвал девушку неподобающим словом.
«Бывшего старшину роты!..» — отметил Антон.
Он вспомнил вчерашнее, как мичман выговаривал серыми губами «переспали со своей девкой…», и все в нем запротестовало.
— Что же я должен был делать? — почти крикнул он, краснея и подавшись грудью к столу полковника.
Полковник смотрел на него и обдумывал ответ, и едва заметная усмешка тронула на миг его губы, когда он заговорил:
— Вы должны были написать жалобу и подать по инстанции.
— А вы сами?.. — совсем уже по — граждански стал возражать Антон, но Гриф резко оборвал его:
— Если бы «а я сам», непонятливый вы человек, то вас судил бы военный трибунал и определенно дал бы вам два года дисциплинарного батальона, после чего ни о какой военной карьере не может быть и речи. И третье ваше нарушение: вы ни в коем случае не должны были брать увольнительную записку и уходить из расположения части. Радуйтесь, что вам засчитали опоздание из увольнения, а не самовольную отлучку… Так как… — Гриф вздохнул, будто сожалея, — так как вы были уволены и не было никакого повода лишать вас увольнения.
— Тогда двадцать суток многовато, — сказал повеселевший Антон.
— Нахал, — отечески ругнул его полковник Гриф. — Сегодня вас посадят, а тридцать первого будет амнистия. Где же двадцать суток? Все учтено, Охотин, и все справедливо. Мы долго обсуждали ваше дело и многих спрашивали. Скажу вам откровенно, что начальник училища был против моего решения. Он был склонен буквально выполнить требование устава.
— Вы его переубедили, товарищ полковник? — робко вопросил Антон, понимая, как круто могли нынче распорядиться его судьбой.
— Не-ет, — покачал головой полковник и со странной улыбкой закурил из своего золотого портсигара. — Где уж мне переубеждать адмирала… Решающей гирей на вашей чаше прихотливых весов судьбы оказалось мнение комсомольской организации. — Полковник засмеялся. — Эти молодцы умеют переубеждать. И не боятся переубеждать. Если так можно выразиться, молитесь за комсомол, курсант Охотин. И помните, что наказывают не проступок, а человека, его совершившего, — строго сказал полковник Гриф, — с учетом о-очень многих обстоятельств.
8Он мылся в душе, переодевался, проверился в санчасти, а через два часа стоявший в тот день в карауле Григорий Шевалдин с карабином и подсумком на ремне (набитым, впрочем, не патронами, а сигаретами) вез Антона на городском трамвае на гауптвахту. Потрясенный Григорий не знал, что сказать. Антон важничал, как важничает выдающийся преступник, и тоже молчал. Когда вышли из трамвая, он наконец подал голос:
— Ты вот что, конвойный, разрешил бы позвонить по телефону.