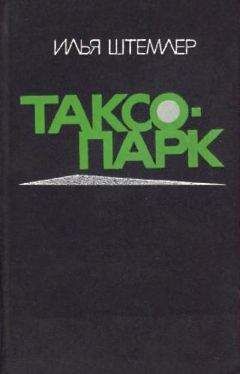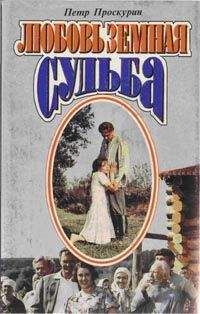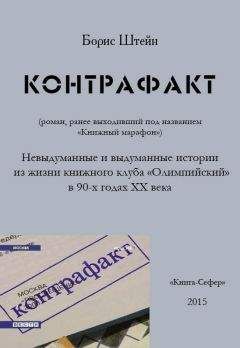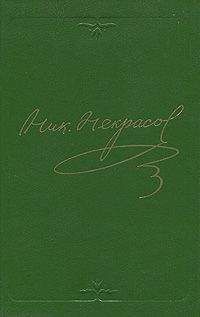Борис Некрасов - Просто металл
Но Вера стояла на своем. Она настолько свыклась с мыслью о том, что теперь-то они будут наконец вместе, настолько была вся устремлена к этому, что никакие доводы разума уже не в состоянии были поколебать этой ее устремленности.
Ну, а сам Иван, считал ли он свои доводы достаточно убедительными? Трудно сказать. Но он испытывал горькое, невыразимое чувство досады, обиды на судьбу, что ли, плетущую вокруг него паутину, кажется, совсем неразрешимых вопросов. Почему?! Почему получается все время так, что общественный долг его перед людьми и перед собой и его сугубо личные интересы, его любовь приходят в противоречие? Или он сам виноват в этом? Может быть, чувство долга в нем слишком гипертрофировано, и щепетильность его — не что иное, как донкихотство? Может быть, он слишком требователен и жесток к себе и, вместе с тем, к любимому человеку? В конечном счете, все — в нем. Не разговоров же он вокруг боится, не что люди скажут, а потерять уважение к себе. А значит, и к людям. Любить себя и уважать себя — это разное. Уважать в себе только человека можно, и такое уважение непременно распространяется на человека вообще, на то человеческое, что есть в каждом. А любить себя — значит, ради блага своего, ради шкуры своей поступаться этим человеческим.
Голос рассудка спрашивал: а куда она денется, ваша любовь? Не выдержит еще одного короткого испытания временем? Какова же тогда ей цена?.. Все так. Но до каких пор можно испытывать чувство — на разлуку, на время, на сомнения?..
Щадя бдительную нравственность дежурной по этажу, они не решились вести разговор в номере у Ивана или у Веры и далеко за полночь засиделись в холле. Поначалу здесь было людно: работал телевизор, через холл, выходящий прямо на лестницу, сновали люди. Их становилось все меньше, гостиницу постепенно одолевала ночная тишина…
— Вера, Вера! Родная ты моя! Ну давай договоримся с тобой так. Зиму переждем еще. Одну только зиму! Между нами ведь все уже решено, правда? Пусть тебя ничто не смущает. Мы уже свои, совсем свои люди. Муж и жена. Поезжай обратно к маме! А весной я тебя обязательно вызову.
Вера встала.
— Тебе завтра рано ехать, Иван. Пора спать.
— Но ты мне скажи, ты согласна? Ты понимаешь, что это самое разумное решение, какое мы можем принять?
— Я не знаю, Ваня. Не знаю! Я должна что-то еще обдумать, понять, быть может. Насильно я с тобой не поеду, конечно. Нет-нет, ты не думай, что я не понимаю ничего или не верю. Верю: любишь. И, может быть, ты прав. Ты же умный, все рассудил. А я еще не успела. Я, наверное, придумаю что-нибудь все-таки. Иди спать.
Иван проводил Веру до дверей ее номера. Положил руки на плечи, привлек к себе. Девушка отвернулась, подставив ему щеку.
— Иди-иди, Ваня. Я завтра провожу тебя.
Проводила. В аэропорт не поехала, но когда он в восемь утра вышел из номера, она сидела уже в холле, поджидая его. С улыбкой встала ему навстречу.
— Ну, ты и соня все-таки! Я уж думала, не идти ли тебя будить. С добрым утром.
— С добрым утром, родная! Вот, кажется, в порядке все, да? Ты уже и улыбаешься. Вот такую я тебя люблю.
Вера, наклонив голову набок, чуть прищурив ясные голубые глаза, глянула с лукавинкой.
— Я буду все время улыбаться. Возьмешь?
Иван развел руками. Девушка рассмеялась:
— Ну, ладно-ладно, поезжай холостяком.
— Ну что ты решила? Иван был удивлен и, чего греха таить, чуть-чуть уязвлен столь разительной переменой в Верином настроении.
— Я напишу тебе.
— Но что же здесь писать? Ты решила что-то или нет?
— Нет-нет еще. — Быстрым знакомым жестом, означавшим решительность, она отбросила свалившуюся на лоб золотую прядку. — Меня заставляешь терпеть — терпи и сам. Сказала — на-пи-шу!
Появилась Клава. Не глядя на Веру, подошла к Гладких.
— Доброе утро, Иван Михайлович. Будем собираться?
— Готов-готов. С добрым утром. Познакомься, — он запнулся, не зная, как представить Веру. — Моя жена, — выговорил он наконец.
Клава, пряча глаза, наклонила голову. Вера почему-то расхохоталась.
— Это он явно преувеличивает. Совсем еще не жена.
Клава крутнулась на одной ноге и уже на бегу, тоже смеясь чему-то, крикнула:
— Побежала ребят тормошить. Торопитесь!
— В ожидании твоего письма мне предстоят очень трудные дни, Вера.
— Ничего. Долг платежом красен.
— Я, как приеду на место, сразу же тебе открытку отправлю или, еще лучше, телеграмму. А ты уж, пожалуйста, отвечай, — сказал Иван просительно.
— А куда?
— Я же сказал, что сразу сообщу.
— Вот я и спрашиваю, куда ты писать будешь?
— То есть, как это — куда? К маме, конечно.
— Ну, хорошо-хорошо. Договорились. Только знаешь что, не пиши сразу. Я в пути задержаться могу и боюсь, что письмо твое меня опередит и мама переполошится зря. Она же думает, что мы вместе.
— Ерунда какая! Где это ты можешь задержаться?
— Мало ли. Погода, билеты… В общем, ты не торопись, ладно?
Иван пожал плечами.
— Ладно. Но весной ты приедешь?
— Спишемся.
Так с этим «спишемся» и уехал Иван на аэродром в настроении смятенном и растерянном. Вероятно, только этим и можно было объяснить, что он поделился с подсевшей к нему в автобусе Клавой.
— Ну и зря, — с присущей ей прямотой заявила Воронцова, — надо было, чтобы ваша невеста с нами поехала.
Не поняла, значит, и Воронцова, что действительно все не так просто…
Радостный вопль Вити Прохорова: «Снижаемся, снижаемся!» — отвлек Ивана от его нелегких дум. Тундра встречала новоселов разливом электрических огней. Постепенно разряжаясь и наконец совсем растворясь в непроглядной темени со стороны тундры, у моря они обрывались сразу, резко очерчивая береговую линию.
Самолет стало потряхивать на воздушных ухабах.
— Совсем как на земле, — заметил Карташев. — Едешь себе, едешь по трассе — дорога, как полагается. К поселку подъезжаешь — обязательно тряска начинается. Колдобины, гребенка, ямы. Словно именно здесь, у поселка, и смотреть за ней некому. Точно так и в воздухе. Сколько ни летаю, обычное дело — к аэродрому подлетаешь, — как по вывороченным булыжникам, тарахтишь.
Навстречу самолету летели две пунктирные трассирующие линии огней посадочной площадки. Легкий толчок, еще один, еще, короткая пробежка и — сразу же ударившая в уши тишина.
— Ну вот, — отрываясь от иллюминатора, поднялась со своего места Клава, — мы и приехали. Здравствуй, тундра!
13. Санный путь
— А ты не спеши, дочка, — поправил девушку Семен Павлович. — Это еще не тундра, а парадный подъезд. Тундра впереди, как полагается.
И действительно, их более близкое знакомство с Заполярьем началось лишь спустя несколько дней, когда был сформирован тракторный санный поезд из трех мощных восьмидесятисильных машин, впряженных в огромные сани-волокуши. Они-то и должны были доставить людей, оборудование и материалы к месту расположения будущего горного участка. Предстоял трехдневный переход по заснеженному бездорожью в глубину тундры, туда, где, растворившись во мгле, исчезали зажженные человеком огни, где разжечь их предстояло им, комсомольцам-новоселам.
В районном центре к группе Гладких присоединилось еще человек десять горняков, добровольцев с близлежащих предприятий. Среди них внимание Ивана привлек высокий худощавый парень, горный мастер с прииска «Арктический».
— Анатолий Волков, — представился он, когда Гладких зашел к ним в комнату поселковой гостиницы, принявшей на несколько дней новоселов. Представился таким тоном, как будто именем своим и фамилией все сказал.
— Гладких, — ответил Иван и, улыбнувшись, предложил — Что ж, теперь на правах старого знакомого, может быть, и с остальными познакомишь.
— Можно, — охотно согласился Волков, — Саша Никитин.
Из-за стола с неожиданной легкостью поднялся могучего сложения парень, этакий русоголовый богатырь с торсом Ильи Муромца. В громадной ладони его свободно умещались все семь костяшек домино, которым развлекались ребята до прихода Гладких.
— Если услышите когда, что кого-то Саша-кран называют, то это он, — аттестовал приятеля Волков.
Никитин отмахнулся добродушно и протянул Ивану руку.
В легком пожатии Гладких ощутил с трудом сдерживаемую силу. Засмеялся одобрительно.
— А ручка, верно, ничего!
Кто-то подтвердил:
— Саша-кувалда — это тоже про него.
Посмеялись.
— А серьезно? — спросил Иван. — Какая специальность?
— Тракторист, бульдозерист, автослесарь. Немножко по токарному делу могу.
Гладких кивнул:
— Подходяще!
— Веня Пушкарев, — продолжал Волков представлять товарищей.
Этот показался Гладких прямым антиподом Никитину. Тонкий в кости, бледный, с обескровленными губами, юноша не мог очевидно похвалиться ни силой, ни здоровьем. Запоминались большие и яркие на бледном лице темно-карие глаза как будто постоянно удивленные. Движения паренька были порывисты, руки непрестанно и нервно двигались.