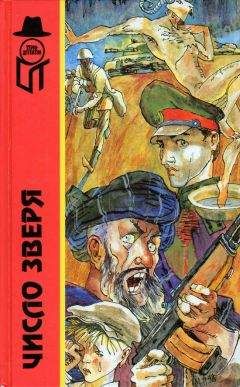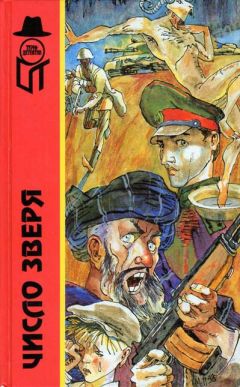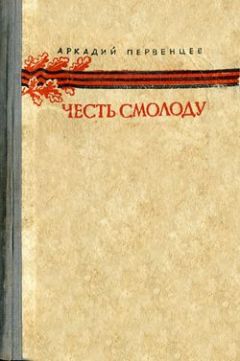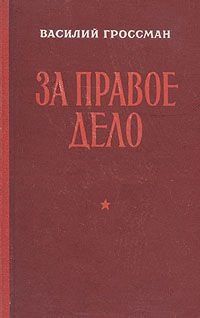Гумер Баширов - Честь
Зиннат шел к ней с непокрытой головой, в расстегнутой гимнастерке, игриво улыбаясь, что совсем не шло к нему.
— Отчего, думаю, в Яурышкане так жарко? — заговорил он шутя. — Оказывается, здесь еще и другое солнце палит!.. Здравствуй, Нэфисэ! — Он приложил руку к сердцу и слегка наклонил голову.
Видно, молоко да масло, да теплое солнце Байтирака пошли джигиту впрок: лицо его округлилось, глаза оживились. И заиканье было уж не так заметно. Только повисшая плетью левая рука напоминала о ранении.
— Так ли? — спросила Нэфисэ не очень приветливо. — Джигиту, объездившему свет, наше солнце, наверно, кажется с коптилку... Ну, как здоровье?
— Здоровье-то ничего.
— А рука?
— И рука...
— Что ж не договариваешь? Иль ты кем недоволен? Если девушками, так они тебя не обижают...
Зиннат вынул фиолетовый платочек и мягко коснулся им лба.
— Девушки?.. Да не о них печаль. Красивые, хорошие девушки, хулить нельзя. Если б дело было только в этом!..
— Вот еще! Разве не девушки окрыляют джигита?
Зиннат посерьезнел и ни с того ни с сего заговорил напевно:
— Джигит думает, размышляет, а к чему приведут его думы — не знает. Сны видит, а сны к чему — не разгадает... Помнишь, мы пели раньше:
Я вижу многих, но к одной
Всем сердцем я стремлюсь! —
кажется, так?
— Может, и так. Да ведь старое уже забылось. Мы потом много других хороших песен сложили.
Зиннат краешком глаза поглядывал на высокую грудь Нэфисэ, на ее открытую шею. Широкая голубая лента, повязанная поверх платка, казалось, придавала особую прелесть Нэфисэ. Как он мог забыть ее! Ведь даже в этом ситцевом платьице она не уступает разряженным красавицам из города!
Нэфисэ заметила, как жадно разглядывает он ее, и, смутившись, стала поправлять фартук на груди.
Зиннат снова начал балагурить:
— Чур меня!.. Каюсь!.. Вспомнил былое и чуть не забылся...
Желая прекратить разговор, Нэфисэ наклонилась, делая вид, что срывает травинку.
— Что было, то прошло, быльем поросло да травой заросло.
— Ну, а коль травой заросло, так можно и выполоть.
— Выпалываем — которая мешает. А нужную, видишь, и выхаживаем!
Нэфисэ повернулась, чтобы уйти.
Зиннат, видимо, не ожидал, что она будет так сухо разговаривать с ним. Он снова вынул свой фиолетовый платочек, но не стал им обтираться. Надо было как-то задержать ее.
— Прости, Нэфисэ, — сказал он, приложив руку к сердцу, и виновато наклонил голову. — Хотелось поговорить запросто, по душам... Ничего не тая. Конечно, у каждого немало своего горя, особенно в такое время. — Он смотрел на нее умоляюще.
Однако Нэфисэ сделала вид, что не заметила этого многозначительного взгляда. Она отбросила сорванную травинку, отряхнула руки и ответила ему просто, будто ни о чем не догадывалась:
— Конечно! Ведь ты столько изъездил... Наверно, многое можешь порассказать...
Тут она обернулась и окликнула босоногую девочку, половшую неподалеку овес:
— Сумбюль, умница моя, поди-ка сюда! Давай запишем трудодни за эту неделю на доску... — и как ни в чем не бывало приветливо сказала Зиннату: — А ты заходи к нам домой. В последнее время и отец и мать вечерами дома... Старики любят поговорить... Ну, до свиданья.
Когда Зиннат отошел немного, Нэфисэ обернулась. Он шел, не оглядываясь, размахивая здоровой рукой, и в каждом его движении сквозила обида. Нэфисэ, напевая песню, пошла вверх по дороге.
4
Однажды вечером, когда Нэфисэ возвращалась с поля, ее догнала Юзлебикэ. Она странно посмотрела на золовку и покачала головой:
— Смотрю я на тебя и дивлюсь: и чего ты томишься? Тебе не унывать, а радоваться бы надо, что не осталась с полным подолом ребят!.. Ну и характерец! Да такая красавица и разумница нигде не пропадет!
Спорить с Юзлебикэ было бесполезно. По ее понятиям, мир прост и несложен; все лежит на поверхности как на ладони.
— А я и не собираюсь пропадать, — возразила, улыбаясь, Нэфисэ. — Да некогда мне обо всем этом думать, есть дела поважнее.
— Хи, душенька моя, — выпятила губу Юзлебикэ, — будешь голову ломать — в восемнадцать лет поседеешь! — Ее глаза на круглом, красном от загара лице блестели весело и задорно. Все ее плотное тело, крепкая короткая шея, оголенные по локоть руки дышали здоровьем и силой. Держа тапочки под мышкой, Юзлебикэ шла, выпятив могучую грудь, уверенно ступая босыми ногами и оставляя на мягкой дорожной пыли широкие следы.
Нэфисэ невольно залюбовалась ею. Кто бы мог подумать, что она — мать четырех детей!
— Ай-хай, джинги, цветочек мой, — толкнула она шутливо в бок Юзлебикэ. — Как бы ты не сбежала с кем-нибудь до возвращения мужа!
Юзлебикэ весело расхохоталась, отчего лицо ее стало еще круглее, а на крутых щеках появились ямочки.
— Ишь, языкастая!.. А что, очень раздобрела? Хаха-ха!.. Сбежать-то, может, не сбегу, а все-таки, если твой братец замешкается там, того и гляди что-нибудь случится... Ей-богу! — Внезапно она замолчала и задумалась. — Э-эх, это только так кажется. — Потом, глубоко вздохнув, сказала: — Заботы меня, душенька, одолевают в последние дни. С прополкой запаздываем. Как бы сорняки не заглушили просо. Тут сенокос подходит, там жатва. Не успеешь оглянуться, озимые надо будет сеять, молотить, хлеб вывозить... Как подумаю — сердце так и защемит. А на тебя посмотрю да на глухого черта Бикмуллу, так прямо зависть берет. Моя-то бригада отстала от вас. И хлеба у вас лучше моих... Ты, кажется, и пары кончаешь?
— Завтра закончим. А просо мы по третьему разу пропололи.
— Завтра, говоришь? Ну вот, так и есть! — с беспокойством выкрикнула Юзлебикэ. — Не больно тут раздобреешь. — Но, взглянув на шагающих впереди загорелых, здоровых девушек из своей бригады, снова оживилась. — Видишь, какие они у меня? Каждая трех стоит! Погоди, вот придет жатва, заставлю я вас поплясать!
Нэфисэ посмотрела на Юзлебикэ, на ее смешно нахмуренные брови и расхохоталась:
— Ага, обидно? Не хочется плестись в хвосте?! Что ж, поторапливайся... А в жатву еще поглядим, кто кого плясать заставит!
Впереди показалась деревня. Юзлебикэ замедлила шаги и, повернувшись к Нэфисэ, мягко сказала:
— Скоро ты забыла родной дом. Не мешало бы дочери и к отцу заглядывать!
— Не могу свободного времени найти, джинги. То сев, то прополка... Так дни и проходят.
Юзлебикэ настороженно поглядывала на золовку:
— Очень хочется посидеть, поговорить с тобой... Пойти к вам — так и у меня заботы. Да при стариках и не поговоришь.
— Какие еще заботы? Нет ли от брата плохих вестей?
— Нет, от мужа таких известий не было... Зиннат вот вернулся... Сама знаешь, одинокий он. Я ему и заместо матери и заместо сестры.
«Опять Зиннат!» — подумала Нэфисэ, а ей сказала:
— Жени ты его, джинги. Дом у него хороший, и сам хоть куда. А там, глядишь, и рука поправится, учиться поедет.
— Да ведь еще неизвестно. Доктора ничего толком не говорят. И это на него действует. Когда ни пройдешь мимо окон, всегда у него свет. Заглянешь, а он все вышагивает по комнате... — Юзлебикэ остановилась на миг, как бы раздумывая, стоит ли говорить, затем искоса глянула на Нэфисэ. — С твоим именем не расстается, бедненький... Бывает же такая любовь! И уговаривать его пыталась: «Не суждены, стало быть, друг другу. Отрезанный ломоть к хлебу, мол, не пристанет. Собери, говорю, свой разум! К чему тебе все это — вздыхать, недоедать, недосыпать?» А он точно огня наглотался. «Неужто, говорю, другую красавицу не найдешь? Девушек теперь полным-полно. Женишься — остепенишься. Как начнут цепляться дети за полу — забудешь про всякую любовь». Да нет, куда там! Рукою отмахивается. «Мне, говорит, другой не надо!» И ничем его не проймешь. Даже слушать не хочет. Ох, не знаю. Душа у него очень чувствительная... Побаиваюсь, как бы не рехнулся...
Она опять повела краешком глаза на золовку и удрученно вздохнула. Нэфисэ шла, крепко стиснув губы, и в глазах ее не было ничего утешительного.
— Послушай, джинги, и не обижайся! — проговорила Нэфисэ после долгого молчания. — Ты старше меня и сама должна понимать. Об этом ли мне сейчас кручиниться? Еще земля на могиле Газиза не осела, слезы на глазах не высохли, а ты: «любит... другой ему не надо...» Эх ты!.. А Зиннату надо бы подумать — не обижает ли он своими непутевыми словами человека в такое время...
Юзлебикэ уже поняла, что наболтала лишнее, и смутилась.
— От жалости к нему сказала... А то разве не знаю, что печального не наряжают... Там люди в огонь идут, а тут... Да, нехорошо получается... Сама понимаю.
Они прошли немного. Но Юзлебикэ не могла долго молчать, ее томило молчание.
— Молодые годы — глупые годы! — заговорила она снова и усмехнулась. — Этот мальчишка со своей любовью напомнил мне девичью пору... Хоть и раненько выскочила я замуж, да свое взяла, не жалею. И шутила и любила. Ей-богу! Да и как голове-то было не кружиться! Один бровью поведет, другой подморгнет; тот — гармонист, этот — плясун, а третий ласковым словом возьмет!