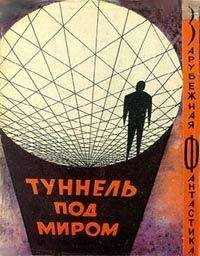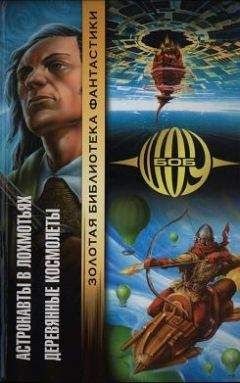Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
— Что поделаешь, — говорит он. — Не хочешь — не надо. Обойдемся и без тебя. Когда спохватишься, будет поздно.
— Чего ты меня учишь, думаешь, не понимаю? Стоит вам пошевелиться — я уже все вижу. Да и так ясно: в потемках ты, брат, бродишь!
— Я?!
— Ты. Такой уж ты уродился.
— Гром тебя разрази! Надо же — сказать мне такое в лицо! Я совсем не понимаю, что у тебя на уме. Дурак ты! Дурак последний.
— Вон! — Криступас хватает сеть, которую Казимерас хотел было забрать.
— Может, скажешь, твоя? Быстро, однако, ты все забываешь, голодранец! — кричит Казимерас, пятясь с сетью в руках.
— Да подавись ты своей сетью! Все вы подавитесь.
Летят искры, потрескивает огонь, дует легкий ветерок, и вместе с ним сюда долетает шум ужпялькяйской березовой рощи, который изредка заглушается гудом высокого леса.
— Не унывай, сынок, — Криступас гладит Юзукаса по голове. — Что поделаешь, не унывай.
Юзукас сидит, обхватив обеими руками исцарапанные коленки, подавшись вперед, и смотрит, как пламя жадно пожирает собранные им хворостинки. Взгляд мальчугана печален и глубок. А Криступас снова поглядывает на воду. Глаза у него бесцветные, как небо, умытое ливнями: лицо заросшее, со впалыми щеками, белое как мел — он еще не успел прийти в себя после выстрела.
Где-то на лугу возле леса, звякая цепью, подпрыгивает лошадь, раздается чей-то голос «кузя, кузя», — это Казимерас кличет свою кобылицу.
Юзукас будет рыбачить с отцом до темноты. Вдвоем. Старой дырявой сетью. И будет этот полдень долгим, мелководным, полным запахов рыбы, водорослей, ила и истлевшей листвы. Криступас не устанет грести по заводям, а Юзукас — бегать за ним следом, подавать сеть, спички, торбу или жердь и собирать рыбу, которую выбросит на берег отец. Запыхавшийся, обожженный крапивой, исцарапавший в кровь лицо и ноги, он будет мчаться по первому зову отца и без зова, а отец будет спрашивать его, как дела в школе, рассказывать, как выглядело когда-то русло реки, где какое дерево росло, сколько на своем веку поймал он рыбы…
И сын забудет, что, отправляясь сюда, он мечтал только о том, как бы поскорее убежать на пастбище и покататься верхом на лошади. Не вспомнит он об этом и тогда, когда увидит пасущихся на лугу лошадей, только перейдет на другой берег реки, чтобы двоюродный брат Альгимантас не заметил его, не окликнул, не явился сюда, где они вдвоем с отцом и вокруг только вода и рыбы… И все, что было в тот день, вдруг почему-то сопряглось в его юной душе, свелось к тому сумеречному мгновению, когда он с торбой и жердью стоял на высокой, устланной прогнившими стволами круче и смотрел, как там, внизу, в маленькой, как щепка, лодке, его отец тягается с грозным, бурлящим течением Швянтойи. На Криступаса накричала председатель колхоза Константене: почему лоботрясничаешь, браконьерствуешь, она-де сейчас составит акт. Константене уже начала было рыться в своей сумочке, но, услышав удары топора в сосняке, стремглав бросилась призывать к порядку другого нарушителя.
Хоть и громко кричала Константене, но Юзукас был уверен, что там, внизу, тягающийся с рекой отец не слышит голоса свояченицы. Охваченный каким-то смутным страхом, мальчонка вдруг пустился к реке и немало удивился, увидев, что отец как ни в чем не бывало привязывает лодку.
— Что стряслось? Ты чего так запыхался? — спросил Криступас.
Юзукас не знал, что и ответить, и про Константене далее не заикнулся. Отец положил ему руку на плечо и сказал, чтобы он, пока они вместе, никогда ничего не боялся, и оба зашагали по полю. С одной стороны текла река, с другой — чернел лес, над кронами деревьев стоял протяжный, сулящий скорые сумерки гул, и плыл тихий голос отца, и им обоим светили пожелтевшие леса…
Бригадиром избрали Ужпялькиса.
— Ну теперь все, — сказал Казимерас Визгирде.
— Что все?
— Теперь вам крышка. И килограмма зерна не увидите. Константене тоже.
В глазах у Казимераса запрыгали бесенята, и Визгирда, глядя, как он вьется перед ним вьюном, подумал: не замыслил ли Казимерас снова что-нибудь дурное. Ни с Константене — ей только под актами подписываться, речи толкать, неважно с какого амвона (таково было мнение Казимераса о свояченице), — ни с Ужпялькисом или Накутисом (те в одну дудку дуют) им, Казимерасу и Визгирде, мол, не по пути. Визгирда долго будет ломать голову над этими словами Казимераса, но никак не сможет понять, своим умом Казимерас до всего этого додумался, или кто-то его научил. Не мог надивиться он и на Константене: в такой раж баба вошла! С близкими почти не разговаривала, некогда ей, видите ли, было — каждый божий день то в райцентр, то в местечко. Казалось, горы свернет. Может, она там с кем-нибудь шашни завела, или кто ее приворожил, — слыханное ли дело, чтобы женщина из-за чего-нибудь другого так переменилась, говаривал Визгирда, следя за тем, как Константене, зажав под мышкой сумочку и сунув в муфту руки, мчится через холм к большаку.
— Вот увидишь, останешься соломенным вдовцом, — говорила Тякле Константасу.
— Ну, а в постель она с тобой ложится? — донимал его Визгирда.
Константас отводил взгляд в сторону. Он всячески пытался оправдать жену: делами по горло занята, не до того ей.
Константене была депутатом апилинкового совета, членом женсовета, входила в разные комиссии… Но больше всего любила выступать на собраниях. Надо было видеть, как, навалившись на трибуну, она говорит с ужпялькяйцами, ругает их, честит, объясняет, кто что делает плохо, как нынче следует работать и думать. А какие их ждут перспективы! Константене не скрывала, что они, мол, темнота, закоснелые, замшелые, как пни, но это наследие старых времен, крепостного права, за это еще писатель Тумас-Вайжгантас стыдил их; подтолкнешь — пойдут, не подтолкнешь — стоят на месте, говорила она, делая многозначительные паузы между словами, чтобы у земляков было время поразмыслить. И слушали они ее, раскрыв рты, выпятив подбородки, чувствуя, что стыдит она их вполне заслуженно.
Пусть они сначала наведут порядок в своих дворах, говаривала представителям власти Константене, разобьют цветники, пусть читают газеты. Надо их понемногу приучить ко всему доброму и прекрасному. И начинать следует с малого, говорила она, повторяя чьи-то слова.
— Может, ты и правду говоришь, — сказал однажды после долгих ее увещеваний Визгирда и тяжело вздохнул, — но что из того?
— А ты так сделай и увидишь.
— Скажем, я сделаю, а другие?
— Что, другие? — Ты разве на других смотришь, когда тебе в нужник приспичит? А?
— Мне кажется, не под ту дудку ты пляшешь, — не уступил Визгирда. — Можно подумать — все от тебя зависит. Есть еще головы и там…
— Вот-вот! — кидалась в самую пучину Константене. — Шило всегда из мешка вылезет. Ты еще и сам не понимаешь, что сказал, молчишь… Ну давай с тобой подумаем. Тебе все еще не ясно? Ну да, ты же сам признался, что у тебя головы нет, а у меня, Визгирда, по крайней мере, своя голова на плечах!
Шмыгая носом, мимо них, бывало, пройдет Накутис. Подбежит Криступене, послушает их спор, поохает, помотает головой, помашет руками, словно защищаясь от назойливых ос, промямлит «господи, ты, боже мой» и снова мчится к скотине или к ребенку. Где же это твой бог? — спрашивала у нее председательша, но Криступене только всплескивала руками. Да ну вас! Где это видано, где это слыхано, ну вас! — отмахивалась Константене и опрометью бежала прочь.
Подходили к ним и Кайнорюс, и Анупрас; останавливался, возвращаясь со спиртзавода, Криступас — он туда на работу устроился. Нахлобучив на самые глаза шапку с козырьком, слушал их, странно улыбался и щурился, как от солнца. Константене всех собирала вокруг себя. Только дома ее редко видели. Хлопоты по хозяйству легли на плечи Константаса. Он сам стряпал, но от его стряпни у едоков частенько схватывало животы, и по вечерам, сидя за столом, Юзукас слышал, как кто-то с шумом сбегает с крылечка. Это Константас пулей вылетал во двор, не успев даже попросить племянника, чтобы тот постоял возле хаты — дядя, видите ли, очень боялся темноты. Поев, Юзукас отправлялся на другую половину избы и, пристроившись под закопченной лампой с болтающимися хрустальными подвесками, листал газеты, выискивая в них статейки о колхозе «Луч». Константас вырезал эти заметки и вклеивал их в школьную тетрадь Юзукаса. Мальчонка замечал, что дядя при этом очень волновался: то на часы глянет, то в окно; далеко на пригорке был виден огонек. Как только раздавались шаги, Константас вставал и выходил на крыльцо.
Случалось, Константене возвращалась даже после полуночи. Молча снимала платок, стряхивала с бордового пальто капли, распускала перед зеркалом волосы, совсем не реагируя на горькие упреки расхаживающего вокруг нее Константаса. Разве так можно? Еще кто-нибудь застукает… Она, бывало, молчит, молчит и вдруг как заорет!.. Вся семья вскакивала с постелей. Ее вопли даже Визгирды слышали. Константас больше не приставал к жене. Молчал. Шут с ней. Он ходил по избе, заложив руки за спину.