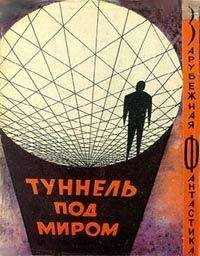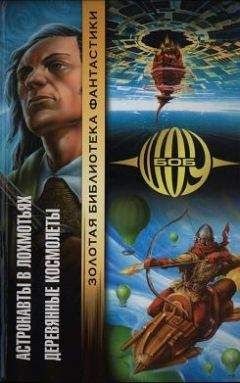Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Она возвращалась с репетиций. В горнице Наглиса они готовили вечер. Подоив коз, приходили сестры Бразджюнайтите, Ошкутис, иногда забегала Тякле Визгирдене, дочка Казимераса Геновайте, несколько парней, что жили по ту сторону большака. Артистов не хватало, и Константене все ломала голову, кого бы еще привлечь, агитировала даже Визгирду и Анупраса. Согласился и Константас, которого она долго уламывала, — он считал, что у него прекрасное произношение. Когда Константене возвращалась, они репетировали дома, и Криступене, кормя ребенка или стеля постель, часто слышала грохот передвигаемых стульев и перебранку. К величайшему удивлению соседки, кричал и ломал стулья Константас, который при жене даже рот раскрыть боялся. Однажды Криступене в полутьме сеней чуть в обморок не упала, столкнувшись с мужчиной в шляпе, с черными закрученными усами, который влетел во двор и закричал благим матом, чтобы ему подали карету. Это был Константас, который играл роль какого-то важного барина.
— О господи, как я перепугалась, — рассказывала Криступене на следующее утро Тякле, — всю ночь дрожала. Как бросился вон — оба ведра с пойлом опрокинул! Свиньям несла. Поднимаю голову, а передо мной стоит какой-то усач… О господи… Вдруг слышу: не бойся, невестка. Только потом поняла — Константас! В рассудке повредился. И дверь на засов заперла, и окна закрыла. О господи…
Но на представление Константас не явился — может, у него живот схватило, а может, испугался. Минуту торжества, к которой с таким тщанием и выдумкой готовила его жена, прошла мимо него, и Константас из-за этого еще долго сокрушался, пытаясь разжечь в себе ничем не обоснованное тщеславие — я бы там такие тирады закатил.
Зима прошла в репетициях, в подготовке вечеров. Старожилы, которые помнили еще времена, когда труппы играли в ригах, а вечеринки устраивались в сараях, с удовольствием ходили смотреть, как веселится молодежь — их сыновья и дочери.
Однако по весне, перед самым главным представлением, ребята, сбежавшиеся к клубу с крашенками в руках, даже ахнули от удивления: двери выломаны, окна выбиты, декорации изодраны, костюмы, шляпки, косы изрублены… Самые активные самодеятельные артисты получили записки с угрозами. Константас не знал, куда спрятать свою тетрадку. Ну точно в штаны наложил, смеялась Визгирдене.
Потом посыпались жалобы, пошли ревизии. Долго никто не мог взять в толк, кто доносы пишет. Константас договорился до того, что стал во всем винить Накутиса и Ужпялькиса. Это, мол, их рук дело, сами воруют, но хотят свалить вину с больной головы на здоровую. И Константас поднимал свой указательный палец. Казимерас потирал руки — теперь такие делишки раскроются, только держись! Он Барткусу еще когда говорил: нечего назначать бабу начальником…
Лицо Накутиса словно окаменело. Он водил комиссии, отпирал гумна, показывал подписи Константене и пожимал плечами, робко выпятив подбородок — ему что, он ничего не знает.
Не хватало кормов, скотину приходилось поднимать веревками. Анупрас сгноил корма. Константене ездила в район, надеясь получить ссуду. Но, видно, задолжали ужпялькяйцы дальше некуда. Вскоре против председательши было возбуждено уголовное дело. Я ведь говорил… Сколько раз я говорил, твердил Константас, не суйся куда не следует — обожжешься.
Накутису что, не он квитанции подписывал. Факт к факту, дело к делу — все педантично было собрано районной прокуратурой. А сколько разговоров! Прокурор, санкция, нанятые свидетели, адвокаты… — Эти слова не сходили с уст. Дети видели, как у их отцов, когда они произносили эти слова, вздувались вены на лбу и краснели затылки. Отцы ставили себя то на место Накутиса или Ужпялькиса, то на место Константене или прокурора или вдруг воображали, будто они главные свидетели на суде: «Да будь я на его месте…» — кричали они, и голоса их уподоблялись грому. «Если бы меня послушались… — говорили они. — У его же стола стоял…» — голоса гремели так, будто ужпялькяйцы говорили с трибуны — может, тогда-то и появилось здесь присловие «как с трибуны говоришь».
Не было в округе человека, который не знал бы о чем-нибудь больше, чем другой, и каждый старался подчеркнуть свою осведомленность в разговоре, хотя, когда кого-нибудь припирали к стенке, он тут же отказывался от своих слов. Все раскрыли глаза, навострили уши. Ужпялькяйцы листали судебные книги, припоминали конституцию, законы.
Вдруг кто-то вспомнил, как однажды вечером вдоль леса тарахтели возы, как Константене сбросила кому-то мешок с зерном, как Накутис велел подписаться под фиктивным актом… Словом, на поверхность всплыла уйма грязных делишек.
Был самый паводок. По разлившимся речкам и лужицам Константене то и дело бегала в местечко. Ее жесты и движения сделались резкими и решительными, словно она пробиралась сквозь обступившую ее толпу. Только по этой беготне ужпялькяйцы и догадались, что у Константене есть еще кое-какие надежды. Все факты свидетельствовали против нее. Конечно, не одна она виновата, но поди докажи.
Словно в лихорадке повсюду шнырял Казимерас.
— Распутают… Все ниточки распутают, — говорил он.
— Может, и ты к этому руку приложил? — окинула его взглядом Тякле Визгирдене, даже не подозревая, что истина глаголет ее устами. — Может, что-нибудь знаешь, скажи, — допытывалась она у брата.
— Может и знаю, но каждому овощу свое время, — потирал он руки, избегая почему-то взглядов соседей. Виноват, не иначе, думала Визгирдене.
Вдруг все прояснилось; были арестованы Накутис, Анупрас, Ужпялькис — подделывали подписи, фиктивно списывали добро… В один прекрасный день Казимерас примчался к Константасу и давай кричать: пусть теперь Константас ему, Казимерасу, спасибо скажет, пусть ползает перед ним на коленях, пусть все перед ним шапки снимут, говорил он, задыхаясь и ужасно волнуясь. За что это? — удивилась Тякле, которая пришла во двор к Даукинтисам. Она еще спрашивает, за что, пуще прежнего раскричался Казимерас. Мол, если бы не он, Константене давным-давно сидела бы в тюрьме.
— Сибирь ей грозила, Сибирь! — кричал он, поглядывая на большак.
— Ты только, ради бога, не ори, — осадил его Константас. Лицо его выражало беспредельную растерянность.
— Теперь-то чего бояться, чего? — кричал тот, поворачиваясь к каждому по очереди. Теперь что хочешь можно говорить, вот… И если бы не он, Казимерас…
— Стало быть ты к этому руку приложил, — шагнул к нему Визгирда. — Я так и думал — ты! — тыкал он пальцем в грудь Казимераса. — Он бы и Криступаса продал.
Странно улыбаясь, наблюдал за ними Криступас, следили разинув рты мальчишки.
— Только без драки, — сказала Тякле.
— У, гад!.. — сплюнул Визгирда.
— За что это? За что это ты теперь так Константене защищаешь? — спросила у мужа Тякле. — Давно ли ты ее последними словами поносил, давно ли говорил, что так ей и надо? Может, не говорил, может, теперь отпираться будешь?
Размахивая руками, подбежала Криступене: на пригорке мелькнул красный платок Константене — она быстрым шагом шла по большаку.
— Говорил! — сказал Визгирда. — Говорил и буду говорить. Я всегда все в глаза говорю.
— Подумаешь, нашел чему радоваться. Что это за добродетель такая? И что ты за нее имеешь? Важничает, кричит…
— Замолчи, — заорал Визгирда, — хорош у тебя братец. Ты что в адвокаты к нему нанялась? Шляхта задрипанная. Обмана я не терплю. Обмана и коварства. Вот кто на тебя донес! — сказал Визгирда Константене, прибежавшей сюда как на пожар. Под мышкой — потертая сумочка, разбухшая от документов и квитанций. Визгирдене хотела было повернуться к председательше, но Казимерас вдруг вышел на середину круга:
— Ну, говорил… Еще в тот первый вечер я Барткусу все выложил. И тебе не раз правду говорил, — обернулся он к Константене.
— Как псы… — покачала головой Криступене.
— Комедия, — поддержал жену Криступас. — Я говорил, — покосился он на Казимераса, — не буду играть в твоих комедиях.
— Ты не думай, это не комедии, — вновь вмешался Визгирда. — Он бы тебя…
— Ну и что? Что тут такого! Нашел из-за чего горло драть! — заросшее лицо Криступаса тронула улыбка. — Идемте лучше в избу.
— Знате, слыхали, знате, — пробормотал невесть откуда взявшийся Кайнорюс.
— Иуда, — промолвила Константене.
Но Казимерас не слышал.
— Обвиняет! Она еще меня обвиняет! — восклицал он. — А знаешь ли ты, милая свояченица, кто первый начал доносы строчить? Накутис! Твой любимчик! Накутис. Как увидел, что хвост задымился… Одно счастье, что я вмешался.
— Что же ты раньше не сказал, если такой хороший? — снова закричал через головы всех Визгирда, но Казимерас пропустил его слова мимо ушей и продолжал:
— Барткус с Юодкой мне и говорят: рассказывай, что там на самом деле, все выкладывай. Ну, я словечко, другое, сами понимаете, что значит к месту, да вовремя сказать. Я, милая свояченица, с первого дня был с тобой заодно, только понимал, что нам это бремя не по плечу, вот если бы еще Криступас…