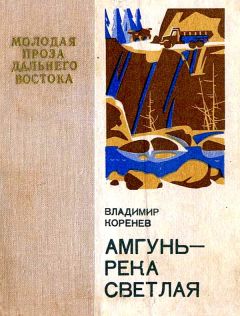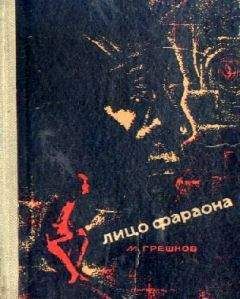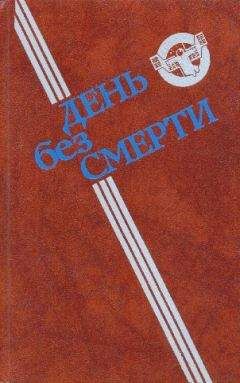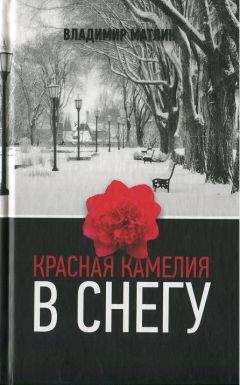Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
В деревне пацаны в клюшки не играют. Зимой — салазки, катушки на елабужской щеке, снежные городки. Многие собак в санки запрягают и носятся по укатанному большаку, подскакивают на конских лепехах, юзят в придорожные сугробы. Шоферню такие ездоки выводят из себя.
Федька Ренев, которого все звали Комаром за его любовь к камаринской, тот любил цепляться за машины. Уши у шапки торчком, тесемки развеваются, а сам еще орет и пританцовывает. Отец его заказал казанскому пимокату специальные пимы с утолщенной подошвой: думает, что Федька исплясывает валенки. Все Реневы на плясках помешались. Даже дед Сидор, летом, бывало, выходил из подсолнухов, пританцовывая.
У меня с сестрами есть настоящие нержавеющие коньки-снегурки, на которых мы по очереди катаемся по елабужскому льду около проруби.
Снегурки похожи на полозья от салазок, тоже с завитыми носками. Прикручиваются туго-натуго к валенкам сыромятными ремешками с палочками. Крепко прикрутишь — кататься одно удовольствие. Слабо — будешь как корова на льду. Синяков не сосчитать. У Пономаревых есть «англичанки» с острыми носками. В МТС их приклепают к ботинкам, тогда Нина нагонит форсу, крутанет волчок. На снегурках в моих валенках она и то здорово крутит. У Карася и Комара коньки деревянные, но эмтээсовские слесаря обещали им сделать железные наподобие «англичанок». Тогда можно будет попробовать в клюшки сыграть…
Каток возле проруби замело, на ледяном куполе снежная шапка. По выдолбленной Ганей лесенке не взобраться: лед — снег, лед — снег… Все же я пробую вскарабкаться с лыжами в руках, но съезжаю. Я встаю на лыжи и еду дальше, к молоканке, где берег пологий и можно елочкой подняться к большаку.
Ветер набрасывается на меня, влетает под пальто, в валенки, швыряет в лицо большие колючие снежинки. Ну и холод наверху. А сил уж нет скользить тяжелыми охотничьими лыжами по глубокому снегу. На бугристых залысинах большака лыжи вовсе разъезжаются, и приходится делать шпагаты, как при построении физпирамиды.
— Да отвяжись ты, — прошу я ветер. Тот еще пуще начинает кружиться и посыпает меня снежной пылью. Лицо мокрое — ничего не видать. Но вот слышно, как Марта учуяла меня и ласково замычала: «Ничего, мальчик, ползимы прожили. Как-нибудь дотянем до тепла. Будешь встречать нас с Майкой на велосипеде. Му-у-у. Му-у-у. Ско-о-ро. Ско-о-о-ро».
Живая шуба
Иконов яр огорчил меня. Помешала метель. Но ведь в такую круговерть и должно случаться что-нибудь такое, необычное. Ничего не случилось. Икона мне не явилась — только замерз как цуцик.
Но что это? У нашей избы — розвальни. Дым из трубы какой-то праздничный, во дворе распряженные сани. Вот оно что! И как же я забыл? Сегодня вся родня будет встречать старый Новый год. Святки! Ребятня пойдет по домам славить.
Дверка на чердаке открыта. Из-под нее свесилась березовая ветка, сухие листья, как жестянки, скребутся друг о друга. На снегу бурые листья кажутся по-весеннему зелеными.
Из сенок вынесли пучки трав и банные веники. С ларя убрали войлоки, душегрейки, валенки. У двери чьи-то здоровенные катанки в чунях. Травновская родня: у них мода на чуни. Озерники. За дверью — громкий разговор. В избу не войдешь: дверь прижата холодным тулупом. Пахнет печеным, вареным, жареным. Тетя Лиза с бабушкой хлопочут у печки, двигают ухватом горшки, чугунки, противни. Клацают вафельницы. Если до вафлей дошло дело, то быть большому пиру.
Когда Рая и Лида прибежали из школы, я уже перезнакомился со всей родственной оравой мальчишек и девчонок.
Все хотели быть ряжеными. Губная помада, печная сажа, мох, оставшийся с весны, пакля, вывернутые наизнанку овчинные шубы, старые сарафаны, поневы — все шло на ряжение.
Взрослые перед пиром вели степенные разговоры, устанавливали забытые родственные связи, вздыхали по умершим, радовались крестинам и свадьбам. Из Травнова и Гагарья, из Казанки, Ильинки и Зимихи понаехала родня. Без приглашения, по заведенному порядку: самый что ни на есть праздник справляется у Селезневых. Малаховы, Травновы, Каргаполовы, Дроновы, Селезневы, Селезневы…
В деревне не заведено, чтобы ребятня крутилась возле взрослых и канючила со стола шаньги, пироги, пряники. С застольными угощениями нас отправили в свободную избу.
Сегодня допоздна можно славить. Я вырядился в рязанскую бабу. К животу привязал подушку, напялил полуцыганское платье с оборками, раскосматил на голове серую паклю, подвязался платком. Помадой намалевал щеки, сажей подвел глаза.
Все осмотрели друг друга, подкрасились, подчепурились, взяли для зачина по прянику. Пряники только что были сняты с листов. Полумесяцем выдавлены стаканом, сверху почирканы ножом и посахарены.
Развеселая гурьба ряженых ввалилась к Реневым, пропустив впереди себя белого ягненка из пара. Федька испугался черта и закричал маму. Рая в вывороченном полушубке, кривляясь, корчила рожи. «Рязанская баба» устыдила трусишку — узнав мой голос, Комар успокоился.
Все вразнобой стали славить:
— Хозяин с хозяюшкой, примайте гостей с разных волостей.
Я у мамки один —
Сам себе господин.
Не видать из кожуха —
Дайте с маком пирога.
Мы стоим у вас впотьмах,
Звезды светятся в глазах.
Огонь при нас —
Мы славим вас.
Кто там шатается по дороге? Петро Ренев идет с тещиных блинов. Свора нечистых закружила его, повалила в снег. Нелегко отделаться от ряженых.
Неизвестно где и когда пристал к славильщикам Ганя Сторублевый. Ганю рядить не надо: он всегда как ряженый, бренчит побрякушками, мычит и смеется, словно икает. В рубахе, портках и босой — с ним наша толпа стала куда солиднее.
Всю деревню прошли славильщики. У каждого в мешке что-то есть: шаньги, пироги, пряники, каральки. Не то что в пятом бараке славил я со «звездой»: хлеба с маслицем.
Последней славили селезневскую избу. У нас пир горой и дым коромыслом. Взрослые тоже вырядились кто во что горазд и пляшут до упаду — посуда позвякивает, пол ходуном ходит.
Родители своих ряженых детей не признали, гадают и суют в мешки всякую стряпню. Не унимаются славильщики. Ждем, когда тетя Лиза вафлями откупится. Она сует каждому по вафле и выносит из чулана охапку берестяных личин: баранов, быков, чушек и всяких страшил. Вот это ряжение! Взрослые из-за личин едва не передрались: хрюкают, мычат, блеют, бьют в пастушьи барабанки. Такое тут началось. Все Селезнево подняли на ноги.
Тетя Лиза вырядилась ямщиком, приплясывает, повизгивает, гремит чайником с бражкой.
А ночью на полатях бесчисленные страшные истории о ведьмах, оборотнях, утопленниках, домовых и деде Сидоре, который возвертался с того света. Вздрагивает малышня от страху, хнычет, кричит маму и жмется к старшим.
Девки на выданье в полночь крадутся к амбарам — послушать хлеб. Если пересыпается, перешептывается в мешках зерно, будет в новом году достаток в хлебе и в женихах.
Утро старого Нового года выдалось солнечным. Я надел валенки, вывернул наизнанку шубу бабушки Лампеи и залез в нее. Славильщики спали, вздрагивая во сне от услышанных историй.
Я вышел на улицу. Утро в инее сверкало разноцветными огоньками. Искрящийся снег звонко скрипел под ногами. На улице морозно, ни души.
Певуче отворилась калитка у Обердорфов. Беспокойная тетя Маша поплыла по воду, покачивая коромыслом на одном плече.
— О майн гот! На штрассе идет шупа оне Менш, без шеловек. Тмитрий, Диттер! Оне Менш! Доннер веттер!
Бедная женщина истошно вопит, гремит ведрами, не влазит в калитку, бросает коромысло.
Я и не думал никого пугать. Но получилось забавно. В большущей шубе утонул — меня и не видно. Ворот поднят, полы загребают снег. Действительно, живая шуба.
Чтобы сохранить тайну, я скорехонько возвращаюсь в избу и как ни в чем не бывало залезаю на печь. Ребятня уже поднимается.
Скоро в новогодней деревне только и разговоров, что о живой шубе, увиденной утром Марией Обердорф. Чего только не случается в старый Новый год! Раньше оборотни рыскали, теперь шубы ожили. Не перевелись еще чудеса на Руси.
Мне грустно. Если так рождаются чудеса, то, значит, их нет вовсе. Но я не хочу расставаться с домовыми, лешими, оборотнями, водяными в Чертовом омуте, русалками, чердачиками. Из всех чудес выдуманное только мое — живая шуба. Остальные никем не выдуманы. Они были и будут еще долго, пока я, Толик, буду жить. А оборотней не видели в святочную ночь, так это потому, что разладилось оборотневое колдовство Секлитиньиной сестры — Ведьмы.
Воровая вошь
Перед соседними деревнями селезневцы гордились тем, что у них живет колдунья. Еремей-коновал чурался свояченицы. Правда, он поставил в Ведьмином проулке избенку для нее на два окошка. Но больше никаких дел со свояченицей-колдуньей не имел и не позволял водиться с ней Секлитинье.