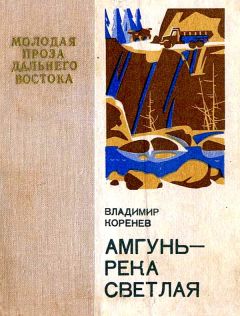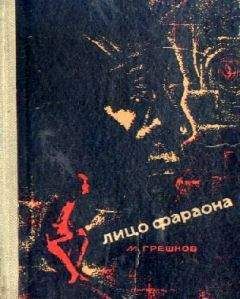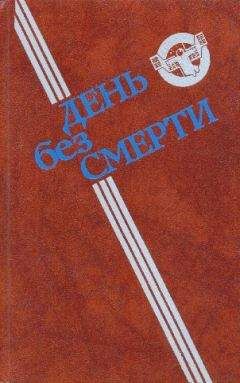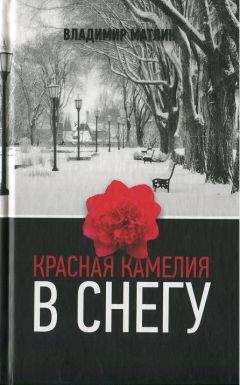Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
Учитель повел нас в класс. В школе пахло краской. Певуче скрипели половицы в коридоре. Хотя все мы не раз бывали здесь, теперь смотрели на все по-новому, по-ученическому. На первой двери слева было написано «Учительская», на второй — цифры «1» и «3».
Учитель открыл вторую дверь и пригласил нас. Впереди как цветок плыла Нина Пономарева.
Шумно захлопали парты: новичков приветствовал третий класс. В комнате парты выстроились в два ряда. Маленькие — для нас. За большими партами, приподняв крышки, стояли третьеклассники. Учителей не хватало — Константин Сергеевич вел уроки сразу в двух классах.
Константин Сергеевич Аржиловский закончил войну позже других, на Курильской гряде. Высокий, сухопарый, он был затянут в мичманский китель и ходил в раздутых, как шары, темно-синих галифе, поскрипывая хромовыми сапогами с длинными голенищами, начищенными до блеска.
Учитель дождался мертвой тишины и выразительно посмотрел на Паньку Тимкова.
К великому удивлению первышей, этот окаянный Роза, язва и первый озорник на деревне, вдруг торжественно встал и чистым, чуть дрожащим от волнения голосом вывел:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой.
Константин Сергеевич натянул ремни трофейного аккордеона, сурово вскинул голову и распахнул мехи.
Мурашки пробежали по нашим спинам, когда посерьезневшие третьеклассники все как один подхватили «Священную войну».
Я знал слова песни и пел вместе со всеми, поименно вспоминая селезневских святых, написанных Еремеем-коновалом: Артемий Селезнев, Геннадий Патрахин, Георгий Селезнев…
Цирк
Электричество в Селезневе еще не провели. В избах сумерничали три керосинках. В клубе гнали кино с помощью движка от трактора «натика».
Клуб — обыкновенная добротная изба без горницы. Печь да заерзанные до блеска длинные лавки.
Тихо в деревне. Промычит в стойле корова, фыркнет лошадь, залает собака. У клуба татакает движок. Сегодня «Семеро смелых». Мелюзга, задрав головы, ползает у экрана. Взрослые лузгают семечки и снисходительно смеются, когда седьмой вылезает из трюма. В который раз замелькали темные звезды, буквы, полосы — опять обрыв или лента кончилась.
— Еропкин — сапожник! Фоткаля на стельку! — слышится озорной свист.
Пока киномеханик перематывает ленту, мужики и дети выходят на улицу. Свежо. В темноте мигают огоньки цигарок. Небо вызвездило. Живые звезды вздрагивают в запорошенном туманностями небе. Мужики степенно обсуждают колхозный трудодень. Нынче он повесомее, чем в прошлом году, можно и кино посмотреть. Пацанва носится и верещит. Цыть, оглашенные, еще не набегались за день! Застрекотал аппарат. Картина продолжается.
Мужики не торопясь заканчивают с куревом. Ребятишки уже задрали головы, смотрят. Не очень интересно. Начинают тихо барахтаться, вскрикивать.
Снова замелькали звезды, буквы, полосы. Перекур. За картину таких перекуров десять-двенадцать. К ним уже привыкли. Самые сопливые в сторонке освобождаются по-малому. Мужики расчетливо смолят. Женщины без них судачат посмелее. Девчонки вроде бы сами по себе, а прислушиваются к бабьим сплетням.
К нам приехал цирк! Тетя Лиза дала нам с сестрами деньги, и мы засветло отправились в клуб. Первый снег запозднился, выпал только сегодня, в конце октября. Катается по большаку волкодав Узнай, собирает на себя снег и отряхивает его на нас.
Сегодня в клуб идет много народа. Разговаривают громче, чем обычно, и смеются чаще.
От снега стало просторней.
У клуба по-прежнему стучит движок. Циркачам понадобился свет. Сегодня ребятишки пристроились со взрослыми на лавках: перед экраном будут выступать. Занавеса в клубе нет. Артисты привезли с собой свекольного цвета плюш и закрылись им от зрителей. Селезневцы уже раз пять начинали хлопать. После хлопанья всем казалось, что плюш шевелится пуще, и снова раздавались хлопки, гуще и дольше.
С боков из черных застекленных ящиков на сцену хлынул свет. Плюш разошелся. Вышел мужчина в черном фраке, с бабочкой, похожий на стрижа, и объявил представление.
Первым номером были акробаты-прыгуны. Сколько их прыгало на сцене и крутилось колесами — не сосчитать. За братьями-акробатами выступила голубятница. На блестящем колесе вертелись белые мохноногие голуби. Покрутились голуби, и на их место уселся хохлатый попугай. Пышная дрессировщица задала ему вопрос:
— Скажи, Коко, как тебя звать?
— 3-з-др-р-;р-рас-с-с-сте, — отвечал трескучим голосом попугай.
— Ай, правильно, сначала надо поздороваться. Молодец, Коко, молодец. Поздоровался, а сейчас представься, пожалуйста.
— Ко-ко-ко-ре-ку-у-у-у, — растопорщил попка хохол и выпучил глаза. — Ко-ко-ко-ре-ку-у-у-у, — повторил он.
— Коко — правильно, а реку-то зачем? Реку не надо.
— Надо, надо, надо, — замотал головой попугай.
— Ты что, петух, да?
— А ты, а ты… — собрался что-то сказануть циркач, но дрессировщица погрозила пальцем и приготовилась накинуть на строптивца платок.
— Дуся, — выпалил Коко и сжался. Его хозяйка печаталась на афишах как Дульсинея. — По-ка, по-ка, — закончил выступление попугай.
Молодежь долго хлопала говорящему попугаю, хотя он и отвечал невпопад. От этого еще веселей получалось.
А вот старые селезневцы недовольно ворчали, особенно дед Сидор. Он помнил еще те времена, когда в травновском лесу тоже водились попугаи. Что это была за птица, никто толком не знал. Говорит — стало быть, попугай.
Скрипит, бывало, на жестоком морозе воз с дровами. Морда и пах лошадиный курчавятся в инее. Изо рта струи пара. Возница сбоку пританцовывает в тулупе, и вдруг оторопь берет и человека, и лошадь — совсем рядом слышны человеческие голоса.
— Ох мороз ноне не тот, что давеча, — говорит первый голос.
— Не говори, кум, вишь, лошадь вся в куржаке.
Хоть все знали, что это птица попугай разговаривает, но многие боялись в одиночку отправляться в травновский лес. Сказывают, остался перед первой мировой один-разъединственный попугай и тоскливо ему стало донельзя. Вот он и балакал сам с собой разными голосами. А цирковой попка — ни бе ни ме.
Дрессировщица не успокоилась: она решила исправиться и вышла с белой собачкой, такой лохматой, что из-за лохм не было видно ее глаз.
Собачка села на задние лапы и принялась лаем считать, сколько будет один плюс три, два умножить на два, от семи отнять четыре. Лаяла она правильно. Потом стала складывать карточки с цифрами. С карточками у нее вышло тоже без ошибок. Смышленая собачка.
Женщина достала из рукава свирелечку и загнусавила на ней. Собачка не выдержала, тявкнула и заподвывала свирелечке, затем вовсе расстроилась и заскулила. Дрессировщица довольно подмигнула публике.
— Будь ты прова совсем! Расквилила собачонку. Фуфыра непутящая, — прошипела позади меня Авдотья, которая сама пасла телят с помощью дудочки.
Авдотья еще что-то шипела, а на сцене уже дул в свирельку клоун. Нос картошкой, лицо размалевано, штанины короткие и разные, штиблеты большущие с задранными носками. Конферансье забрал у клоуна свирельку. Тот воровато огляделся, достал самописку, отвернул колпачок и засвистел в него, как свистит паровоз «кукушка». Колпачок у него забрали, клоун дунул в самописку и обрызгал лицо чернилами. Тогда он достал воздушный красный шар, надул его и стал выпускать воздух, нажимая на пипку. Шар замяукал, закудахтал, заплакал младенцем. Конферансье проткнул шар. Раздался хлопок — клоун брякнулся на пол и засучил ногами. Вроде с ним припадок. А сам незаметно вытащил у конферансье расческу и защелкал на ней соловьем. Тогда «стриж» не выдержал и звезданул воришку тростью по голове. Ба-бах! Из глаз клоуна заструились слезы и потекли, размазывая чернила. Он сбегал за плюш, вернулся со звонким тазиком, в который стал выжимать слезы в такт песни:
До свиданья, мама,
Не горюй, не грусти —
По-о-же-ла-а-ай
Нам доброго пути.
Цирковой свет погас, и в темноте запорхала светящаяся девушка-бабочка. То оранжевая, то зеленая, то синяя, она трепетала, часто махая шелковыми крыльями. Вот она вылетела из крыльев, похожих на крылья крапивницы, как у нее появились сине-зеленые — голубянки. Девушка-бабочка закуталась в лимонный шелк, взмахнула руками и полетела в темноте, мельтеша желтыми крыльями в изумрудных прожилках с голубыми глазками. Как красива девушка-бабочка!
И все-таки мне было стыдно за селезневцев, что они относятся к циркачам как-то неблагодарно, в ладоши хлопают не так сильно и долго, как того заслуживают артисты, громко разговаривают.
Люди в такую даль тряслись, а дедку Сидору пали на ум вещие попугай-птицы из травновского леса; Авдотья-пастушиха нашипела на дрессировщицу, а Розин отец, колхозный шофер, во всеуслышанье хвастался, как он вез цирк из Казанки.