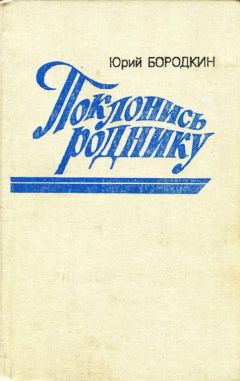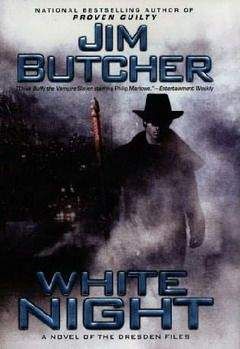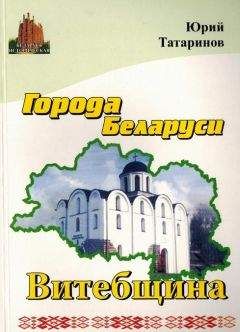Юрий Бородкин - Кологривский волок
Последнее время все чаще беспокоила мысль, что жизнь оставила его далеко в стороне от своей главной дороги. Где-то восстанавливались города, строились заводы, шла война, в каждой газете сообщалось о победах наших войск, а Серега вынужден был оставаться у себя в Шумилине. «Так и проторчу всю зиму с топором в лесу», — с обидой думал он.
Пробрался по сыпучему снегу к сосне, на которой сидел снегирь, и принялся со злостью подрубать ее.
* * *Перед рождеством Серега с Евсеночкиным приехали домой. Светло было в деревне, как днем, месяц, сгорбившись, крался над крышами изб, четкие тени лежали на синем снегу.
В заулке Серега выпрыгнул из саней, шагнул было по тропке к дому и остановился — все окна распахнуты настежь, значит, тараканов морозят. Лапка черным комком подкатилась к ногам, заприпрыгивала, заскулила. Серега потрепал ей уши:
— Ну что, заскучала? Веди к нашим. У кого они живут?
Собака повела по узким тропкам меж домов. Снег, как сухой крахмал, взвизгивал под валенками. У Федулихи сияла «молния» — девичья беседа. Серега поколотил наспех валенки о порог и плечами азартно передернул, словно стряхивая озноб после долгой езды. Эх, елки-палки!
Колька Сизов пиликал на гармошке, платок положил на коленки, как настоящий гармонист. Девчонки, рассевшись по лавкам, пели «На позицию девушка провожала бойца», трогательно у них получалось. Серега перебил песню, ударив по половицам промерзлыми подошвами, гаркнул:
Допризывники гуляют,
Допризывникам — почет.
Скоро в армию уедем,
Куда Песома течет.
Девчонки обрадованно вспорхнули с лавок.
— Серега, откуда хоть ты взялся? Прямо с лесоучастка?
— Не знал, что беседа у вас, а то бы пораньше приехал.
Витька Морошкин, подслеповатый увалень с мясистыми щеками, застенчиво шмыгал носом в углу, вытащил его:
— Давай лапу, интеллигенция! — Серега хлестко ударил по мягкой Витькиной ладони. — Каникулы начались?
— Ага.
— Везет. Теперь самое время побалагурить.
— Да ну их! — махнул рукой, видимо, имея в виду девчонок.
— Брось ты! Сидишь тут, как в малиннике. Станцуем? Бери Зойку, а я Люську. Колька, играй!
Не любит Витька танцевать, но растормошил его Серега, запритопывали так, что вся изба ходуном ходила, лампа мигала. Бабка Федулиха несколько раз обеспокоенно выглядывала из-за переборки, она уж было прилегла.
Потом играли в ремешок. Нравится девчонкам эта игра. Выйдет одна из них за двери, а другая по ее выбору выгоняет к ней ремнем парня. Постоят наедине, может, полюбезничают.
Серегу вызывала Танька Корепанова. Хоть и не пробирал ремень фуфайку, быстрой трусцой, вобрав голову в плечи, выскочил на мост. Темно.
— Танька, где ты?
Пошарил по стенке, наткнулся на Таньку.
— Чего руки-то расшиперил? Глаза выколешь, — остановила она.
— Раз позвала, так сказала бы что-нибудь поласковей.
Теребит платок, молчит, дыхание сбивчивое, как будто бежала.
— Ты надолго?
— На несколько дней, в бане помыться да дома кое-что сделать.
— Ваши-то у нас живут, тараканов морозят.
— Я видел, окна раскрыты. Значит, вместе пойдем с беседы.
— Еще чего придумаешь? — испугалась Танька.
— Озябла? — Серега распахнул фуфайку. — Поди сюда, погрею.
— Ох и бессовестный ты! Пусти! Ну, кому говорят?
Танька проскочила у него под рукой, он попридержал дверь, но ее кто-то отшиб из избы носком валенка. Люська Ступнева, самая старшая из всей беседы, прошла мимо с припевкой:
Пойдемте, девки, по домам,
Здесь кавалеры не по нам.
Понятно, Ивана Назарова нет в беседе. Чего он тут забыл? Все сопляки против него.
За Люськой потянулись и другие. Серега тоже выбежал на улицу, расталкивая девчонок, как снопы, с узкой тропки. Визг подняли, хоть уши затыкай. Кто-то уцепил его за фуфайку, напали со всех сторон и все-таки повалили. Крестом расхлестнулся он на снегу:
— Сдаюсь! Сдаюсь!
Танька воспользовалась этим моментом, припустила к своему дому, чтобы не идти вместе с Серегой на виду у всех. Он отряхнулся и не спеша пошел за ней, озорно размышляя о том, что далеко она от него не убежит.
На улице Колька не играл, берег гармошку от мороза. Застегнув и повесив ее на плечо, он хвастливо пропел:
Ничего не держит мальчика:
Ни стужа, ни мороз.
Я из Панина в Баганино
Тальяночку на лямочке
В Починочек починывать понес…
Девчонки расходились по домам, перекликаясь частушками, и в каждой были страдание, горькая нежность, обещание верной любви.
Танька, поеживаясь, переминалась на крыльце.
— Пошли, — сказала она.
Осторожно поднялись по скрипучей лестнице в избу. За печкой горела лампа. Наталья Леонидовна разговаривала шепотом с матерью. Бабка Аграфена, Ленька и Верушка сопели на печке.
— Пустите переночевать, — пошутил Серега, выглядывая из-за Танькиной спины.
— Ой, матушки, да весь в снегу перевалялся! Танька, где ты жениха-то нашла?
— А сам в беседу пришел.
— Как хоть такую-то поздать?
— С Евсеночкиным приехали.
— Карька ничего? — спросила бригадир.
— Ухоркался, конечно, надо сказать Осипу, чтобы никому не давал его запрягать.
— Поужинайте. — Мать выставила овсяную кашу. — Самовар еще не остыл.
Серега с Танькой остались за столом одни. Молча пили чай, изредка взглядывая друг на друга. Она отводила глаза, морозный румянец играл на ее щеках. Косы черными жгутами сбегали по груди, узко обтянутой ситцевой кофточкой. Ни одной веснушки не заметил Серега на переносице, как будто смыло холодом. А скоро расцветут золотинками, и Танькино лицо станет еще привлекательней. Пожалуй, впервые довелось Сереге разглядеть ее так близко, неторопливо. Он часто походя подтрунивал над ней и сейчас вдруг понял, что обижал Таньку, что она уже заневестилась, стала ходить по беседам. Да и моложе его была всего на год.
Предчувствие чего-то хорошего возникло в Сереге еще с утра, когда он договорился с Евсеночкиным ехать домой. Но разве мог он подумать, что сегодня же вечером сядет за один стол с Танькой Корепановой, что будет жить у них эти дни?
— На днях было комсомольское собрание, — вспомнила Танька, убирая на кухню посуду. — Постановили — каждому собрать по двадцать килограммов золы и по десять куриного помету.
— Где я его возьму? Что ли, глухариный подбирать в бору? — засмеялся Серега.
Танька тоже сдавленно хихикнула, прикрыв рот ладошкой.
— Шуточками не отделаешься.
— Правду говорю. Золу всю Ленька до пылинки выгребает, у них тоже в школе задание.
— В овинах, в банях можно посмотреть: найдешь, как захочешь.
Танька ушла спать в большую половину. Серега подостлал себе тулуп, под голову положил фуфайку. Долго лежал с открытыми глазами. Смолисто пахло оттаявшими под печкой дровами. Иней на стеклах оплавился, мягкий лунный свет падал на переборку.
Глядя на молодой, нарождающийся месяц, Серега с доброй надеждой верил, что в новом году сбудется все загаданное, все самое заветное.
Припоминая случайные встречи с Танькой, он представлял ее узкие глаза, пугливо вздрагивающие ресницы и выпуклые, как будто слегка припухшие, брови, и думы его о ней были чистыми, как этот ясный месяц, прильнувший к окну.
2
Кое-как открыл Серега дверь в баню: пришлось обрубать наледь в притворе. Иней в углах, земля под полом промерзла так, что вспучила половицы. Стужа дышит со всех сторон, как на улице.
Наносил воды, нащепал лучины. Еловое полено попалось гладкое, сухое: едва только коснешься косарем, лучина так и отскакивает с треском. И в печке она взялась сразу. Густой, едкий дым, точно молоко, сочился сквозь каменку, скоплялся у потолка и опускался все ниже. Защипало глаза, запершило в горле.
Три раза накидывал дров, чтобы прогреть как следует баню. Уже не дым, а огонь пролизывал камни, вода в котле едва не кипела. Когда угли прогорели и выветрился угар, заткнул тряпкой трубу.
В первый жар пошла бабка, любит она попариться. В углу на полочке у нее стоят пузырьки с нашатырным и муравьиным спиртом. Каждую весну дед собирал майских муравьев и выжимал из них спирт, которым бабка натирает себе после мытья ноги.
Серега с Ленькой мылись после нее.
— Чешется здорово под мышками, — пожаловался Ленька, стаскивая рубашку.
На свету у окна Серега разглядел швы, в них слюдянисто сверкали гниды. Обтер от сажи шестик над каменкой, повесил на него Ленькину одежку.