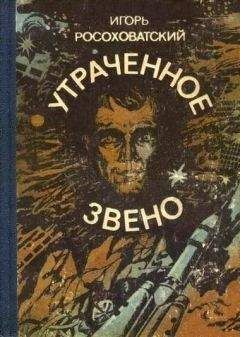Виталий Трубин - Теплое крыльцо
Не останься в березовых ведрах воды, Кеша бы окончательно испугался возвращаться к колодцу. Холодным пауком посередке груди копошился за рубахой страх. Верилось и не верилось, что из черного, по-зимнему высокого поднебесья смотрит на него бог, и Кеша думал: «Коли бог есть, то почему не помогает людям, ни мне, ни отцу, ни матери, и зачем ему столько домов: в одной Москве, говорят, сорок сороков церквей?» Снежный мир был суров, бел и недоступно огромен; и мальчик готов был растеряться перед его молчаливой, морозной силой, таким беззащитно-маленьким стоял он на декабрьском холоде в зипунке, глядя, как затонуло в заснеженных бескрайних полях солнце; но смело, как из черной ямы вырвался из-за горизонта пламенно-прощальный луч, осветил величаво-подвижные в вышине багряно-синие тучи, веселым сиреневым зайцем пробежал под ногами мальчика и скрылся за его спиной, в застылом лесу; и все кругом на один счастливый миг стало живым и родимым; в теплых мирных домах готовились ко сну люди; и радостный, что живет, Кеша подхватил березовые ведерки и побежал к дому, думая, что на сегодня хватит водички, а с утра, когда солнце снова родится на свет, он еще раз сходит к колодцу.
Отец с матерью в тот год трудились на заработках, и обитую рогожей дверь ему отворил дед — бородатый, улыбчивый, синеглазый. Бабка, сильно сдавшая по здоровью, но сохранившая гордую сибирскую стать, собирая на стол ужинать, напевала, а дед шутливо ворчал: «Нашего внучка только за смертью посылать». То, что воды осталось по полведра, не удивило его, наоборот, он похвалил Кешу, который, счастливо улыбаясь, сам стал выливать воду в деревянный бочонок… На дне березового ведерка еще оставалась ласково плещущаяся колодезная, пахнущая румяным снегом, вода, но Иннокентий Кузьмич Заворин, вечный крестьянин и хлебороб, строго вытянулся и умер.
VIКрасногон впереди Петра взвизгнул и, напружинившийся, вытянувшийся в струну, понесся со всех ног.
— Куда!? — звал его Петр. — Я без тебя не найду!
Припозднившийся гусиный караван в небе кричал, что впереди долгий путь.
Красногон только один раз подал голос. И его тоскливый, смертельно пугающий вой точно вывел на место.
День стал похож на летний. Распушив хвост, белка прыгала с ветки на ветку, будто метался среди зелени влажно-серый язычок пламени.
Петр стоял над воронкой оцепенелый и испуганно-жалкий. Старик лежал на боку, вытянув вперед правую руку, словно был свален неизвестно как залетевшей в это безмолвие пулей. «Да что это я?» Бросив ружье, Петр соскользнул в воронку к Заворину, тронул его лоб и не почувствовал ни холода, ни тепла. Тогда он повернул старика на спину, судорожно торопясь, расстегнул на нем телогрейку, прильнул ухом к груди. Ему так хотелось, чтобы сердце старика пусть плохо, но дало о себе знать, но оно не билось. «Как же я не узнал — здоров ты сегодня, Заворин, или нет?» — тоскливо подумал Петр и бросился искать по карманам старика сердечное — валидол или нитроглицерин, — но не нашел. В старенькой армейской телогрейке и солдатских галифе лежали только нужные для охоты вещи.
Петр вспомнил, что надо попробовать сделать массаж, и стал с силой, двумя руками, ритмично давить на левую сторону груди Заворина. Скоро устав, в окончательной растерянности и страхе, он опять попытался услышать биение сердца… и обреченно сел в ногах старика.
VIIКогда волоком, сильно напрягаясь, он выволок Заворина из воронки и молча сел на колени рядом, пес взволнованно заскулил и требовательно, как друга, лизнул Петра в правую щеку.
Поняв его, Охохонин встал, вытер свое мокрое лицо вязаной шапкой, повесил на шею двустволки, а потом неловко, только с третьей попытки, поднял себе на плечи Иннокентия Кузьмича и, сгибаясь под неживой, тянущей к земле тяжестью, пошел за собакой, которой сказал:
— Домой!
Дорога по лесу была долгой и трудной, но Петр шел, как солдат, думая, что сегодня кончилась его молодость и началась другая жизнь, которой еще долго не будет конца.
ДЕВОЧКА В ОЧКАХ
Сергеев, мы с ним двенадцать лет не виделись, измучил меня телефонными звонками. «Слушай, — говорил он, — я новую квартиру получил, много всякого добра накопилось, а лишнее перевозить не хочу. У меня четыре коробки неразобранных книг. От деда остались. Самые хорошие давно на полках, а эти в дешевых бумажных переплетах… Пришел бы, посмотрел, что можно продать и за какую цену. Выручи! Я тебя отблагодарю».
Мы с Сергеевым вместе учились не то в девятом, не то в десятом классе, а недели три назад встретились в метро «Динамо». Холодная, неинтересная была встреча. Сергеев окончил пищевой институт. Холеный, уверенный в себе человек. Отца я его не знал, а дед, по школьным рассказам, был знаменитый медик, любитель книг. Только поэтому я и собрался к Сергееву. Вдруг в ящиках редкие книги? Купить — не куплю, так хоть в руках подержу.
Сергеев встретил меня по-домашнему: в старых джинсах, клетчатой рубахе и шлепанцах. У него, высокого, широкоплечего, была на удивление вялая, небольшая рука. Мы поздоровались, и он сразу повел квартиру смотреть. Еще ничего не было готово к отъезду. В больших чистых комнатах было много мебели, старинных картин и хрустальных ваз. «Живу хорошо, — говорил он. — А ты?» Я же отвечал, что третий год жду, когда отстроят кооперативный дом, где у меня будет двухкомнатная квартира, а пока снимаю комнату за пятьдесят рублей. И Сергеев торжествующе-снисходительно на меня глядел.
— Где же книги? Ты их уже уложил? С ними надо поаккуратнее. Они, как малые дети.
— Нет. Книжки буду перевозить в последнюю очередь. — Он провел меня в третью комнату, молча указал на книжные полки.
Книги были великолепные: русская классика марксовского издания, зарубежная проза, поэзия в крепких дореволюционных переплетах.
— Да, — с уважением сказал я, — у твоего деда был хороший вкус.
— Великий человек, не нам чета, — с гордостью ответил Сергеев.
— А где же ящики с книгами?
Одну за другой, тяжело отдуваясь, он принес в комнату четыре картонных коробки.
— Смотри. — Сергеев сел рядом со мной, грузно уйдя большим телом в английский, черной кожи, диван.
Я развязал ящик и, вдыхая терпкую пыль — предвестницу открытий, с наслаждением тронул первую книгу. Это был Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». Второе издание 1924 года.
— О! — сказал я. — Очень ценная книга. Не вздумай ее продавать. Оставь как реликвию.
Потом я вынул потрепанную роман-газету и чуть не задохнулся от радости: «Тихий Дон», напечатанный на желтой газетной бумаге, с очень выразительными из казачьей жизни рисунками!
— Одно из первых изданий, — стал рассказывать я. — Не продавай. Это должно храниться в вашей семье.
— Да! Но хоть что-то из всего этого, — он с надеждой окинул взглядом коробки, — можно будет продать?
— Не торопись.
Через два часа я отобрал то, что можно было предложить «Пушкинской лавке». Осталась неразвязанной синяя толстая картонная папка. Мы отложили ее на потом. Сергеев разрешил ее посмотреть, когда мной были установлены, а им записаны примерные цены на книги.
Я развязал папку и сразу увидел грязно-серую, захватанную пальцами тетрадь и только открыл ее, как перед глазами вспыхнуло:
«Утром 22 июня я еще считала себя самой счастливой в мире…»
Я смотрел тетрадь судорожно и быстро… Перелистнув еще семь страниц, читал:
«…от Миши с фронта больше не было писем. Сегодня распростилась с косой»…
— Это дневник военных лет. Какой-то женщины, — внешне бесстрастно сообщил я Сергееву.
— Его можно продать? — заинтересовался он.
— Не знаю, — растерянно замялся я. — Дневник обыкновенной девушки. Ничем не выдающейся. Блокадный ленинградский дневник.
— А?! — оживился Сергеев. — Это находка.
— Не думаю, — не стал я его обнадеживать. — Этим дневником могут заинтересоваться только приличные люди. И потом… Такой дневник нельзя продавать. Грех. Его можно подарить музею, архиву. И еще… Вдруг автор дневника — твоя родственница?
Сергеев взял у меня тетрадь, внимательно полистал ее и твердо сказал:
— Нет. Эта девушка из глубинки, из Сибири, а там у нас родственников никогда не было.
Потом его жена принесла нам две рюмки коньяка, черный кофе. Мы поговорили о пустяках, вспомнили школу, и Сергеев, улыбаясь, сказал:
— Какой я был дурак, что так бурно на все реагировал. А теперь понял: не надо поддаваться эмоциям. «Ловите миг удачи», — процитировал он и засмеялся, довольный, что книги в бумажных переплетах можно сдать в «Букинист».
Мы лениво переговаривались, а я не мог забыть о тетради. Как сложится ее судьба? Это непростая тетрадь, если дед Сергеева хранил ее у себя. Он, я помнил по школе, всю блокаду был врачом в Ленинграде.