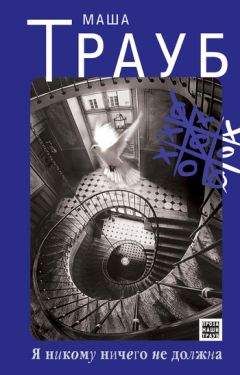Елена Серебровская - Весенний шум
— Вы хотите сказать, что наши истины — не жизненные?
— Убила. Убила на месте. Истины — это одно, да применять-то их надо с людьми, а вот люди — разные. Вам, моя умница, не хватает именно этого: знания жизни. Идеи-то для чего нужны? Для практики. Чтобы нам лучше было.
— Кривить душой все равно никогда не стану. А, может, я и жизнь знаю.
Маркизов смерил ее снисходительным взглядом:
— Понимаете, вы — словно рачок, который сбросил старый панцирь, а новый-то на нем еще не вырос, всякий обидеть может. Я бы не хотел, чтобы вас клевали, — а обидеть вас не трудно.
— Мне их просто жаль, тех несчастных, для которых обижать — удовольствие.
— Святая. Просто святая. Ей жаль… Посмотрим, как оно в жизни получится.
Маркизов имел перед Машей одно несомненное преимущество: она еще только рассуждала, а он уже работал, творил, создавал. Он дал ей понять, что готов взять на себя миссию — знакомить ее с искусством, с театром, а следовательно, и с жизнью.
Оба Машины брата страшно волновались за нее. «Этот дядька — противный, — сразу решил Володька. — Пусть он не думает, что мы рады его приходу».
Володя взял кочергу и сунул ее под закрытую дверь. Маркизов только начал говорить Маше что-то сугубо лестное, как вдруг увидел лезущую из-под двери железную кочергу.
— Это мой братишка… Не балуйся, Володя! — крикнула Маша. Кочерга перевернулась и уползла обратно под дверь. Маркизов рассмеялся. Он смеялся от всей души. Давно ему не приходилось вступать в войну с мальчишками.
Он ушел скоро. Здесь ему нечего было делать. Он взял с Маши обещание пойти с ним в кино как только она поправится.
Вскоре они побывали в кино. Деньги за билет ей так и не удалось вернуть ему, как ни старалась. За его счет? Это было покушением на ее независимость, это шло вразрез с ее принципами, и она нахмурилась.
— Почему вы не пригласили в кино жену? — спросила Маша, в упор взглянув на него.
— Она занята сегодня, — ответил он и удивленно посмотрел на Машу: ей-то какая забота?
Сеанс окончился быстро. Маркизов сидел рядом с ней в темноте, тихий и неподвижный. Он только изредка поворачивал к ней лицо и смотрел, не отрываясь. Он не пытался уже прикоснуться к руке или сказать что-нибудь. «Это я окатила его холодным душем — о жене спросила», — думала Маша.
Они вышли на улицу и повернули на набережную Фонтанки. Он не улыбался, а Маша уже замечала это, уже беспокоилась. «Что же ты не улыбаешься? Рассердился?» — спрашивала она мысленно.
— Вчера у меня был один приятель… Приехал с севера, — начал рассказывать Маркизов. — Он геолог, объездил много разных мест; был он и там, где отбывают наказание уголовные преступники. Это зимой было, вьюга страшная, и пришлось остановиться у администрации. Там он услышал одну историю, которую и рассказал мне. Вот вам кусок жизни, не выдуманный. Вот послушайте…
И Маркизов стал рассказывать. Печально, без улыбки рассказывал он, с каким-то тяжелым выражением лица. Рассказывал, не глядя на Машу.
Там была одна женщина, из воровок. Красивая и беспутная. Не было для нее ничего святого.
Там же отбывал наказание за то, что проглядел большую растрату, молодой бухгалтер. Он был здесь на хорошем счету и работал честно, бухгалтером же. Срок его наказания был невелик.
Человек этот не был женат. Он влюбился в беспутницу и признался ей в этом. Она рассмеялась и заявила: «Тащи два кило сахара, — переночуешь со мной! Цена для всех одна».
«Не то мне от тебя надо», — ответил он и ушел. Больше он не заговаривал с ней, но всегда смотрел на нее, когда был рядом, и очень тосковал. Измучился, похудел, и начальство заметило, что с ним происходит неладное.
А женщина эта вела себя все так же и даже сказала ему как-то: «Разве не хочешь как все? Приходи, мне всё одно!» Он отвернулся от нее и ушел.
И вот начальство решило, что дальше нельзя так. И эту женщину перевели в другой район, в ста километрах отсюда.
Что же случилось? Через две недели она в страшную пургу ушла с нового места. Она шла по сугробам, по бездорожью, и шла не куда-нибудь на свободу. Она шла обратно, к нему. Вернулась и сказала, что пришла к нему.
— Понимаете, в жизни бывают разные штуки, — продолжал Маркизов. — Не так-то уж трудно добиться победы нашему брату… Но в этом ли счастье? Нет, счастье только в том, чтобы женщина сама полюбила, по доброй своей воле пришла к тебе, чтобы пришла через все препятствия и помехи, чтобы не могла не прийти. А всякое прочее — это так, чепуха. Это цены не имеет. Понимаете вы это?
— Понимаю…
— Ну и хорошо. Вот подходит ваш трамвай, но прежде договоримся: завтра приходите на мой спектакль, вот контрамарка. Идите сразу же за кулисы, я буду ждать. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели этот спектакль.
Она пришла. Маркизов сам отвел ее в зал и усадит на откидное место в первом ряду. Каждый антракт он появлялся в зале и уводил ее с собой за кулисы. Там он познакомил Машу с некоторыми артистами, но запомнить их имена Маша не могла: она была слишком взволнована необычайностью обстановки и присутствием главного распорядителя всех этих чудес Семена Григорьича, стремившегося постоянно быть возле нее, а не возле той или этой актрисы. Не до того было, чтобы что-то запоминать и кого-то слушать внимательно.
Провожая ее после спектакля, Маркизов рассказал о кукольном театре для взрослых, который он очень любил.
— На днях мне нужно будет зайти к художнице, которая режет этих кукол из дерева. Она готовит для нашего клуба куклы-шаржи на многих из нас… Там и меня сделали, смешной очень. А женщина эта — талантливая художница. Сходимте вместе, я познакомлю вас. У нее мастерская — целый музей, такие есть прелестные вещи!
Ну как не пойти в мастерскую художницы, которая режет из дерева кукол! И все Маркизов, это он приобщает Машу к искусству!
Художницу звали Ефросинья Савельевна. Это была некрасивая пожилая женщина с узенькими прищуренными глазами. От ее зорких прищуренных глаз лучами разбегались морщинки.
Увидев Маркизова в дверях, она просияла. Но, заметив Машу, усмехнулась как-то горько, обиженно, по-детски. Маркизов представил Машу, но Ефросинья Савельевна взглянула на нее мельком, а дальше не сводила глаз со своего гостя.
Маша ходила по комнате и рассматривала вырезанные из дерева фигурки. Чего только тут не было! Девушка с коромыслом и ведрами, танцующая девушка, двое обнявшись, всадник на коне, старик с лукошком грибов. Одна фигурка привлекла особенное внимание: женщина в простой кофте и юбке стоит на берегу моря, волна с завитком пены на гребне подбегает к самым ее ногам. Ветер сбил платок с головы поморки, волосы рассыпались на ветру, а женщина стоит, бессильно опустив руки, которые наверно только что простирала к морю, стоит и с тоской смотрит вперед. Ждет кого-то, боится — вернется ли? И брови ее скорбно сведены, и подбородок вперед, закинула голову, все смотрит.
Все женские деревянные фигурки стройные, тонкие станом. А сама Ефросинья Савельевна — низенького роста, полная, кургузая. Не вышла красотой.
Маша рассматривает ее работы, а она в углу комнаты смешит чем-то Маркизова. Взяла со стола какую-то куклу, вроде Петрушки, с ногами и руками на ниточках, водит ее, незаметно подергивая то одну, то другую нитку, и говорит за куклу измененным голосом:
— Что это, Ефросинья Савельевна, что это за гость к нам пришел? Что за славный мальчик такой, сытенький, гладенький, сразу видно — ухоженный? Хорошенький мальчик, да жаль, всегда с собой хвост приведет, и все такие славные девочки, одна к одной… А на нас с тобой, Ефросинья Савельевна, никакого внимания… А ты, мальчик, не смотри всё на молоденьких, ты посмотри хоть раз на старую бабу деревенскую… Посмотри-кось на нее позорче, повнимательней, может, увидишь что…
Маша с удивлением обернулась на писклявый кукольный голос. Но Ефросинья Савельевна не моргнула глазом, и сразу Петрушка повернулся к Маше:
— Здравствуй, Машенька, хорошая, пригожая! Здравствуй, дай ручку Петрушке! Дай, я за тобой поухаживаю…