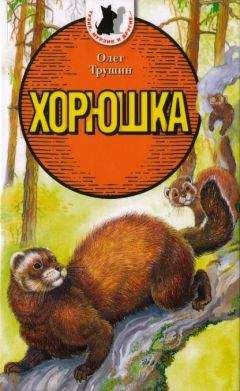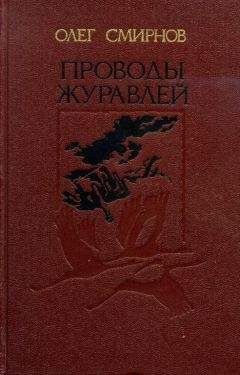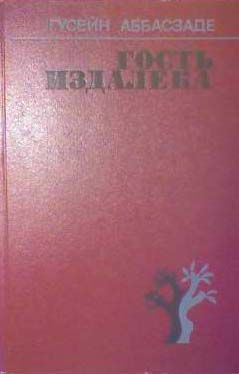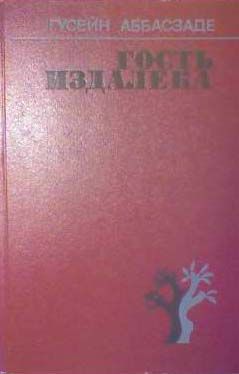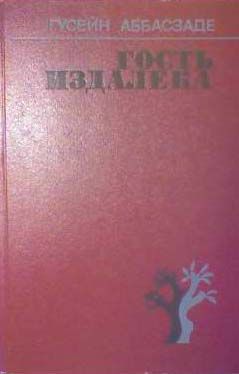Олег Шестинский - Блокадные новеллы
Мы с Ленькой поднялись на крыльцо. В сенях задели пустые ведра, опрокинули их с грохотом, ткнулись два раза в бревенчатую стену, потом попали на дверь и ввалились в комнату.
— Кто там? — послышались женские голоса.
— Да мы, прохожие, — неловко объяснил Ленька.
Кто-то прошлепал босыми ногами, засветил на фанерном столе керосиновую лампу, припустил фитиль.
Женщины только что легли спать, они жмурились от света. Свет выхватывал их распущенные на ночь волосы, оголенные руки, плечи… Облик комнаты их был беден и неуютен: в два ряда железные койки, на которых они лежали под серыми тонкими одеялами; бачок с водой; несколько тумбочек. На подоконнике в граненом стакане гроздь рябины.
Мы застыли, ошарашенные.
Сбились с дороги, — деревянно объяснил Ленька.
— Почаще б такие сбивались, — сказала одна.
— А уж вежливые — жуть! — засмеялась другая. — И приблизиться боязно им.
— А вдруг мы их целоваться научим!
— Они еще этого самого в школе не проходили!
— Я б с чернявым познакомилась потесней, да уж очень положительный.
— Попить можно? — спросил Ленька.
— Отчего же? И попить можно…
Ленька пил воду, а я, постепенно приходя в себя, разглядывал женщин.
На кровати передо мной лежит девушка, разметались черные косы, падают на подушку. Она чуть приподнялась, лямка сорочки опустилась, и налитая грудь, полуобнаженная, рвется наружу…
Наискосок от нее вскинулась на локотки женщина лет двадцати пяти, кудряшки шестимесячной завивки топорщатся в разные стороны. Она переводит взгляд с Леньки на меня и бросает шуточки, от которых подруги ее хихикают, а мы переминаемся с ноги на ногу.
У окна проснулась немолодая, лет за тридцать ей, волосы лоснятся на свету, она не шевелится, но зорко следит за тем, что происходит в комнате. Потом встает неожиданно и проходит мимо нас в сени в одной короткой рубашке, полыхая толстыми белыми ногами. Проходя, потрепала меня по щеке, подмигнула товаркам: «Ничего кавалерчики…»
— Да подойди же ты сюда, — прозвучало вдруг спокойно и ласково.
Я взглянул по направлению голоса и увидел в углу, в простенке между двумя окнами, девушку, темно-русую, с блестящими глазами. Я пошел, петляя между кроватей, не понимая толком, зачем к ней иду.
— Ну, садись, — сказала она.
Я сел на краешек кровати и смотрел ей не в глаза, а на ее ключицы, открывшиеся из-под ворота рубашки, острые и беззащитные. Она перехватила мой взгляд, сказала с усмешкой:
— Понравилась?
Я ничего не ответил и чувствовал себя глупцом.
— Со студенческой стройки?
Я кивнул.
Ленька, попив воды, подался в сени, бросив на ходу мне:
— Жду.
Женщины поутихли, собираясь снова заснуть, поправляли кровати, а я все еще сидел на койке. Девушка высвободила из-под одеяла руку и поправила мне воротничок куртки, касаясь теплыми пальцами моей шеи.
— А ты оставайся у меня, — совсем просто сказала она.
Меня даже в жар кинуло. Ни одна женщина никогда мне так раньше не говорила. «Как мне остаться здесь, — лихорадочно думал я, — когда кругом женщины. Что я буду делать при них с ней и что вообще она хочет от меня?..» Мысли ошеломляюще проносились в моей голове, и в то же самое время какое-то сладкое томление мешало встать и уйти.
— Чего тебе люди, — словно отгадала она мои мысли, — такие ж все, как я. Они поймут, — серьезно сказала девушка.
Она положила мне руку на плечо, и я ощутил, как горяча ее рука.
— Лампу погасим, — шепнула она, — ты мне нравишься.
— Да ты вправду не бойсь, — откликнулась та, что была в кудряшках шестимесячной, — мы бабы ученые, протеста не выскажем…
— Из-под одеяла не выдернем, — засмеялся кто-то.
— Доля наша горькая, чего хлопчика смущаете, — вмешалась самая старшая, — половчей здесь надо, неспособно ему еще так… Он не Васька-топор…
Я знал, что не смогу ни за что в жизни обнять сейчас девушку на виду у всех.
Она прочла на моем лице все переживания.
— Молоденький ты еще… Пойдем, я тебя выведу.
Я пошел, не прощаясь, к двери.
Я огляделся.
Ленька стоял у крыльца.
Девушка, не сойдя со ступенек, высилась в длинной белой рубашке, в пальтишке, наброшенном на плечи. В ночном сумраке она мне казалась другой, чем в комнате, — повзрослевшей и неприступной. Я спросил:
— Как вас зовут?
— Надей.
Неожиданно наклонясь, она шепнула:
— Ты все ж подожди, — и скрылась в доме.
— Я пойду, — независимо сказал Ленька, — вставать рано.
И мне захотелось, чтоб Ленька ушел. Я стеснялся его.
— Догоню тебя, — поспешно сказал я и фальшивым голосом добавил: — Мне-то ведь неудобно сразу отвалиться.
Он ни слова не произнес, повернулся и зашагал своим быстрым шагом.
Снова скрипнула дверь, и Надя появилась на приступочке, в платье и тапочках.
— У меня вино осталось. Пьешь его?
— Давай, — лихо сказал я.
Мы прошли за дом и сели на сухие сосновые бревна. Надя налила в граненые стаканы, улыбнулась:
— Не спится…
Мы чокнулись, выпили, и какая-то доводящая до слез внезапная нежность хлынула ко мне. Я прижался к Наде, чувствуя ее голые и холодные коленки, теплоту плеча, коснулся груди, мягкой и маленькой. Она сидела тихо и безучастно. Потом обернулась ко мне:
— Хочешь, про себя расскажу?.. Со Псковщины мы… С матерью и еще двумя братанами жили… Батя наш на заработки уехал, да и пропал. Как началась война — братанов в армию взяли. Позже узнала, что обоих нет ныне. А к нам фрицы еще в первую осень нагрянули. Обжились они у нас, полицаев своих завели… Через полгода, в мае, прошел по избам, где молодые девки жили, Ванька-полицай, объявил, чтоб всем сходиться назавтра в большом селе Крючине — немцы устраивают праздник для женщин. Пошли мы — и подневольно, потому что приказано было, и по охотке, оттого как уж больно Ванька словами льстил… Там собрались в бывшем клубе все, приехали немцы, офицера главно, стали нас оглядывать да разбирать по себе, откровенно так… Девки плачут, а они спокойно, как поленницу, разбируют нас да ведут с собой по разным местам. А меня Ванька-полицай для себя приберег, в чулан схоронил. Фрицы схлынули, он и заявился, зубы скалит: «Давай должок за укрытку… Все ж со своим земляком». С тех пор он все меня к себе выволакивал… Самогон заставлял пить, с захмелевшей что хотел делал. А всего-то мне семнадцать стукнуло… Партизаны, когда в деревню ворвались, меня у него застали. Он канючил: «Ради любви моей меня оставьте!» А командир меня спросил: «Любовь промеж вас?» — и смотрит строго, как учитель. Ванька моргает белесыми ресницами— мол, выручи. Злоба меня взяла за жизнь мою, сказала я, на Ваньку глядя: «Снасильничал меня девушкой… По сей день мыкает…» Командир рукой махнул, вытащили Ваньку…
А потом мне и Ваньку стало жаль. Ходила на могилку его за прудами, ревела, первый он у меня был, — ведь он, может, в душе своей любил меня по-своему. Когда наши от немцев деревню отбили, Ванькину могилу плугом перепахали, как изменника, а меня всякими словами называли. Потом разное случалось… Да и заботы о себе у меня уже не оказалось. Померкла. А после от осуда-пересуда решила уйти, по вербовке сюда залетела… — Она горько усмехнулась. — Ты прощай, что в комнате наговорено. Такие уж мы подобрались: кто вдова, кто сорвиголова, кто от зла мертва… Васька-топор тут есть с лесосплава, ходит к нам, как выпьет — спит у нас…
Она замолчала и сидела на бревне, опустив голову, словно высматривая что-то в мокрой и темной траве. Колени обхватила руками и стала точь-в-точь девочкой, невесть отчего опечаленной, будто и не было за ее плечами горестей человеческих.
Я тоже молчал. И возникала во мне к ней какая-то жалость и обида на что-то.
— Закурить у тебя есть? — спросила она.
Я никогда не курил.
Надя поскучнела, словно злясь на себя за то, что мне рассказала.
— Ну, ты иди… Иди…
— Куда? — не понял я.
— А к себе… Хватит кинофильма…
— Но почему?.. — упорствовали.
Она еще раз взглянула на меня:
— Ну, что ты понял? От тоски душу открыла. — И добавила спокойно: — Да я и лет на сто старше тебя…
Ранние птицы уже ворочались в своих гнездах, они еще не пели, но как-то странно вскрикивали впросонье и хлопали крыльями, разгуливаясь; медленно, но неотступно светлело небо где-то па горизонте, и все четче проступали на фоне синевы мохнатые ветви сосен и елок; стали видны капли росы на траве, земля сразу похорошела, сбрасывая тьму.
Я шел по дороге. За бревенчатым мостиком расстилался широкий луг в стогах сена. Когда я подошел поближе к стогам, то с ужасом заметил торчащие из сена ноги. Длинные и тощие. В Ленькиных синих туфлях.
— Ленька! — заорал я.
Стог зашевелился, вылез хмурый Ленька, позевывая и протирая глаза.