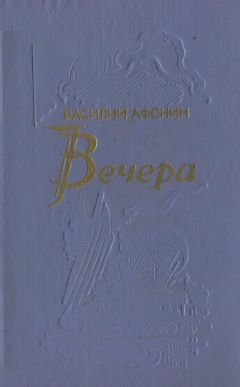Василий Егорович Афонин - Год сорок шестой
...Вернулся обоз во второй половине марта, морозы за это время ослабли заметно, но холодно еще было, и никак не походило, что весна уже. В Кавруши приехали днем, остановились возле склада, стали разгружать. Глухов все сверил по списку, сдал Яшкину и ушел с Кобзевым в контору отчитываться. Мужики распрягли на скотном дворе быков, разошлись но домам. Павел, держа под мышкой одной руки мешок с покупками, в другой сумку, пошел сразу к Щербаковым. Ребятишки заметили его в окно, выскочили встречать. Павел, увидя их, почувствовал, как зашлось, поднялось к горлу сердце, остановился, но так и не смог сладить с собой: вот так бы, не будь войны, подходил бы он к своему дому, а ребятишки...
И Евдокия вышла.
Павел сдержанно поздоровался, вошел, разделся. Сначала достал из сумки гостинцы: связку сушек, сайки белые, ржаные, покрытые глазурью пряники. Положил на стол перед ребятишками. Потом развязал мешок, стал вынимать покупки — все, что удалось достать из одежды. А Евдокия поесть ему собирала, суп они варили...
Каждую вещь Павел с Евдокией рассматривали сначала, обсуждали, потом примеряли на ребятишек. Евдокия радовалась всему — ничего, что размеры чуть больше, так и надо, ребятишки растут, через год, глядишь, в самый раз будет. И фуфайку, купленную ей, надевала дважды, кусок материи цветастой разглядывала долго, на прочность пробовала и стала тут же плановать: Варьке две кофты на лето, остальное на наволочки, а может, и на занавески хватит. Порадовалась и рублям оставшимся,
уложила все в сундук и заторопилась баню топить. Управясь с баней, ушла на ферму, чтобы пораньше освободиться. Радостная впервые за пять этих годов.
Павел, взяв чистое белье — белье купил себе в городе, — пошел париться. Пошел, а Варьку попросил, чтобы протопила избу его: нахолодало там за поездку. Часа два мылся, грелся на полке, хлестался веником, пока но обтрепал его до голых прутьев. Хорошо! Ребятишек помыл. Подстриг их перед баней. Потом Евдокия пошла с Варькой. Навел сидел в прибранной избе, ждал их, за печкой смотрел.
А вечером устроили праздник. Пришли Тимофей с Шурой, Татьяна, за день до отъезда из города Тимофей с Павлом в складчину купили у спекулянта солдатскую фляжку спирту, дорогой грелись из нее раза два, немного привезли домой. Спирт разбавили водой, сели за стол и заговорились чуть не до полуночи. И так хорошо было Павлу в этот вечер — в первый раз за все время, как вернулся с войны. Все казалось, что не он в гостях, а у него гости. Л гости засобирались уходить, и Павел очнулся, встал. Негоже ему было при всех оставаться здесь. Стал одеваться. Но все-таки задержался несколько и вышел опосля других. И Евдокия вышла проводить. И тут, за дверью избяной, то ли от выпитого осмелела, то ли решилась давно, сказала она Павлу:
— Переходил бы ты, Паша, ко мне. Что ж, так и будешь один? Да и мне с ребятишками не легче. Переходи, все одно Минька нас связывает. Ему мать нужна. А старое, как ни жалей-реви, не вернешь. Одному тебе не жить, семью заводить придется. А я уж и так и этак думала... Переходи, Паш. — И затихла, высказав, ожидая, что он скажет-ответит. Гости ушли давно. Ночь. Тихо.
— Ничего не сказал ей Павел, молча вышел со двора. А в избе своей, лежа под шинелью на набитом соломой мешке, долго размышлял над сказанным, закуривая не раз. «А если Андрей вернется, что тогда?.. Как в глаза ему смотреть, а?» Но и в одиночестве жизни своей не представлял Павел. Как это до конца дней самому? Одному? Долгими дни покажутся. Да с Минькой. Уехать? А куда? Кто ждет их? Минька у Щербаковых уж как свой. Свой совсем. Ничем не выделяет его Евдокия. Матерью ее зовет. Надо вместе нам держаться, куда легче будет. А порознь запурхаемся. Надо переходить. Так вышло. Получилось так. Никто в этом не виноват. Ни Евдокия, ни он, Павел. А вернется Андрей, тогда и разговор будет. Что ж...»
Евдокия тоже не спала в часы те. Как сказала она все Павлу, будто беду какую отняла от себя. Легче стало. Знала: перейти должен он. И, зная твердо об этом, попросила у мужа прощения в последний раз. В ноги поклонилась ему...
— Прости меня, Андрей, может, ты и вернешься когда, бог знает, только жизни этой одной мне никак не одолеть. Помнить буду себя всю свою жизнь. Прости. Прости.
— Подумала, что бы еще сказать ему, да с тем и уснула. И к радости своей, снов не видела тяжких, не мучилась. Первое, о чем она подумала утром, что ей всего сорок лет. И даже нет еще сорока. В этом месяце исполнится. В марте...
А Павел собрал наутро все, что можно было взять, заколотил избу и перешел к Щербаковым. Оглянулся по пути на усадьбу свою, усмехнулся невесело совсем...
...Последние дни марта стояли ветреные, метельные, А было до этого много теплых дней, таяло хорошо, снег с крыш сбрасывали уже весна. Под вечер предпоследнего дня потянуло вдруг холодом, подморозило, а в ночь — метель. С вечера как занялась, так до утра и не утихала. Вот ведь. А уж и скворцов ждали...
Среди ночи Сенька проснулся: кашлял дядя Паша. Сенька выпростал голову и долго лежал, открыв в темноту глаза, слушая, как толкается в стены ветер и скрипит, хлопает на ржавых петлях сорванный с крючка ставень. Ему стало страшно — вдруг изба развалится. Старая уже. Или крышу ветром сорвет. Ух ты!
Сенька лежит на полу, угревшись под шинелью. С того дня, как дядя Паша перешел к ним, Сенька с Минькой спят на полу, вдвоем теплее. А Варька на печке. Иногда она пускает их к себе погреться. Когда стужа. Дядя Паша обещал им с Минькой топчан поставить скоро. В углу, возле окна. Можно в окна смотреть...
В эту ночь мать ушла на свинарник — начался опорос, и Минька перебрался к отцу на кровать. Сеньке одному просторно, и не толкается никто. Шинель не тянет.
Дядя Паша опять закашлялся, он кашлял и скреб пальцами грудь, а деревянная кровать скрипела под ним. «Культя у него разболелась, потому и не спит», — понял Сенька. Дня три назад дядя Паша сам сказал:
— Ну, опять культю дергать начало, погода, видно, переменится. Давно она не беспокоила меня, забыл уже. А вот напоминает...
— Сенька вылез из-под шинели, вздрагивая, на цыпочках прошел к лохани и, стараясь не шуметь, помочился в нее. Неудобно было ему, не маленький уже, но и выходить в такой буран за дверь совсем нет охоты. Ощупью нашарил ведро на скамье, ковшик, зачерпнул попить. Льдинка хрустнула на зубах — воду вечером приносили, лед так и не растаял, холодно, выдуло избу. Зазябнув совсем, он пробрался к своей постели и хотел уже лечь, как дядя Паша попросил негромко:
— Сеня, подай, милок, табаку, закурю я. На сундуке лежит кисет. И спички там...
— Сенька проворно подал кисет — в нем газетка свернутая, спички, — залез под шинель и свернулся, подтянул ноги к животу. Дядя Паша закурил. Когда он затянулся, лежа на спине, Сеньке видна была коротковолосая голова его, вдавленная в подушку, край подушки и рука, держащая самокрутку. В избе темно, глухо. «Добрую завернул, надолго хватит, — подумал Сенька. — Надо поговорить с ним, может, и забудет о ноге. Ох, как метет! Как в феврале! А уже таять начало было».
— Весна скоро, — сказал оп, повернувшись лицом к кровати, чтобы слышать лучше.
— Весна и есть, — откликнулся дядя Паша. — Март — по календарю весенний. А что метель всколыхнулась, не страшно. Последняя это. День-два подует, и конец. Март...
— Речка разольется, лед пойдет, — Сенька лег поудобнее. — Ты мне мордушку сплетешь, дядь Паш? Я рыбу стану ловить. Поставлю в ручье за кузней, туда чебаки заходят. А как сойдет вода, черемуха зацветет, с удочкой пойду на омута.
— Сплету, как же иначе... Прутьев только надо нарубить, как растает. На острове, между ручьями, помнишь, тальник, прутья там хорошие. Сплету мордушку. Напомнишь.
— Ружье бы нам охотничье. Скоро косачи токовать примутся. Я просил мамку — не отдавай ружья. Не послушала. И припасы все раздала. Зачем? Глухов забрал. Он.
И ружье купим, сынок, подожди немного, обживемся вот. Все у нас будет. И ружье. Обживемся. — Дядя Паша часто говорил так матери: «Ничего, Дуся, потерпи. Скоро».
По ночам, как перешел он к Щербаковым, они подолгу — слышал Сенька — разговаривали с матерью. Избу дяди Пашину решили разобрать и сделать из нее теплый двор для коровы. Был до войны и у Щербаковых теплый двор. Когда корова пала, испилили его на дрова... Корову собирались мать с дядей Пашей покупать к осени. И осенью же, решено было, Сенька пойдет в школу. Варьке бы тоже надо учиться, да отстала она уже. Сенька стал думать, как пойдут они с Валеркой Харламовым в пятый класс, в другую деревню, и будут там жить зиму в интернате. Он вспомнил, как ходил в школу последний год, и почему-то урок пения. Все заспорили, какую начинать, а Сенька встал и предложил:
— Давайте споем «Когда я уходил в поход».
— А учительница не разрешила.
— Рано вам такие песни петь. Давайте другую...
— Чего она так, дядь Паш?
— Может, и вправду рано вам? Это взрослая песня, солдатская.