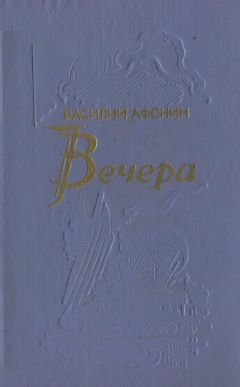Василий Егорович Афонин - Год сорок шестой
заезжали не только из Каврушей, а из многих далеких и близких деревень. Хозяйка дома всю жизнь свою работала для отвода глаз, жила обозами. Две дочки ее, сытые и нарядные, учились в институте. По ним, по хозяйке самой, хоть и без мужа она жила, видно было, что никак не бедствовали они в войну и теперь не шибко бедствуют.
Внутри дом делился на три комнаты, прихожую и кухню. В прихожей, прямо на полу, обычно и спали приезжие, в комнаты их хозяйка не допускала. Если из председателей кто приезжал, тогда только. Кобзев останавливался здесь несколько раз..,
После обеда Глухов отправился на базар договариваться на завтра о месте в мясном ряду, справиться о ценах, занять очередь к рубщику и на весовую — весы получить, пошел по указанному хозяйкой адресу к шоферу, чтобы утром перевезти мясо на базар: не потянешь через город на санях, да обратно гнать подводы, а время идет. Лучше сразу. Мужики отдыхали, таскали быкам воду с колонки.
Городской базар — пустырь между двух улиц, охваченный со всех сторон дощатым забором. По всему пространству торговые ряды под тесовыми крышами, в стороне, возле забора самого, два низких кирпичных, барачного типа корпуса — мясной и молочный. Два выхода с базара — на северную и южную стороны. Киоски возле ворот с мелочью всякой. Плитки в них для обогрева.
Мясо на базар привезли рано и рано встали за прилавки друг против друга на отведенном вчера месте в мясном ряду. Глухов носился туда-сюда, улаживая дела. Здесь, на базаре, даром ничего не делалось: каждому надо было дать. Дать старшему корпуса, чтобы места за прилавком отвел получше. Не против дверей, откуда тянет постоянно, а в стороне, в затишье. Дать перво-наперво рубщику, умилостивить его — он так постарается изрубить туши, костей не увидишь, все на продажу пойдет. А обделишь его, так искромсает мясо — смотреть тошно. Они, рубщики, этим только и живут, веками держатся тут — не спихнешь. На весовой опять же, чтобы весы без очереди получить на каждого, не дожидаться. Шоферу, что перевез туши на базар, денег он не берет, — раз мясо вез, мясом и рассчитывайся. Хозяйке — не за спасибо пускает. Она не ходит на базар за мясом, мясо
само к ней идет. Тому, сему, другому — голова кругом. Встал и Глухов за прилавок.
А туши эти мясные дважды уж были взвешены в Каврушах еще, и цены базарные Кобзев знал прекрасно, хоть и не был перед этим в городе. Он, Кобзев, вечером, перед отправкой, после того, как нагрузили-увязали розвальни, зазвал Глухова в контору. Передавая список необходимых колхозу товаров, постучал согнутым пальцем в столешницу:
— Смотри, вернешься — за все отчитаешься до рубля.
— «Отчитаешься» — хорошо сказать. Еще и торговать не начинали, а уж несколько килограммов уплыло. А как деньги за них восстановишь? Свои рубли-копейки Глухов не собирался вкладывать, с покупателя — один выход. А покупатель пошел, только успевай отвешивать. Изголодался город, выкладывай на прилавки сотни тонн — расхватают не глядя. А торговать Глухов умел, не первый раз с обозом. Понимал.
В корпусе холодно, двери с обеих сторон ни на минуту не закрываются, входят, выходят, день не продюжишь, торгуя. А не шумен вовсе базар — зима. На улице, в рядах, торговли почти никакой. Грузины продают апельсины-мандарины, да кое-где свои мужики клюкву, привезенную из северных районов, связки сушеных грибов - опят, туески берестяные. Да и в корпусе мясном мясом от колхозов только и торговля. В молочном — совсем пусто. Стоит баба одна, стынет. Нет молока.
Глухов мужикам задание дал, сколько продать — на тушах химическим карандашом вес был проставлен, — и всякий час забирал у них выручку, оставляя по нескольку рублей да разменную мелочь. Торговлю не останавливали. Каждого по очереди Глухов отпускал на полчаса поесть, поел — опять становись за весы. До вечера, до темноты самой торгуя, вчистую распродались за два дня, сдали весы, сдали Глухову выручку. На третий, с утра, стали продавать свое — у кого что было. Глухов с лосятиной и салом остался в мясном корпусе, Данила Васюков — подле, тоже килограммов десять было мяса у него припасено, Сорвин с Миловановым ушли в молочный корпус продавать замороженное в кругах молоко, Тимофей с Павлом встали в один из рядов на улице. Павел продавал Евдокиину клюкву, да был у него табаку мешочек, стаканов до ста, — будто чуял, когда засевал свой огород табаком, что в город поедет. У Тимофея неполный мешок семечек подсолнуха. Он постоял-постоял и, чтобы не мерзнуть, продал сразу все спекулянту-перекупщику и ушел по магазинам, гостинцы покупать. Табак у Павла расхватали мужики скоро, не успел оглянуться, клюкву брали с меньшей охотой, бабы покупали ее, за три каких-нибудь часа продал он все, спрятал во внутренний карман деньги, скатал мешки трубкой, сунул под мышку и вышел из-за прилавка. И не через северные ворота базара, как обычно входили и выходили они, шагнул он на выход, а через южные: там, возле выхода самого, торговали с рук барахлом всяким. Может, одежонка какая ребятишкам попадет, Евдокии самой — обносилась. Возле выхода, на тротуаре, около забора, толкалось человек сорок, продавая, прицениваясь, просто так крутились — шпана. Чумазые цыганки зыркали по сторонам, выискивая желающего погадать, пропойцы тряслись с тряпьем в руках. Сброд один.
По утоптанному до ослизлости снегу Павел прошел туда-обратно, приглядываясь. Остановился против женщины с фуфайкой в руках. Фуфайка просторная, самодельной работы, не надеванная еще. «На Евдокию как раз будет», — определил Павел.
— На себя шила? — спросил он владелицу. Спекулянтка, чего там! И не ловят их. Ну.
— На себя, — кивнула та, оглядывая Павла. — Да ты кому покупаешь? Бабе, что ли, своей? — Была она примерно одного роста с Евдокией и такой же стати. Но полнее.
— Отойдем, — предложил Павел, решив рассмотреть получше подклад — всюду ли положена вата. Отошли несколько шагов от ворот. Павел взял фуфайку за плечи, повернул ее так, этак. Фуфайка нравилась ему, он уж хотел спросить о цене, но не спросил. Прямо возле них, под деревом, на низенькой, самодельной, об четыре колеса, тележке сидел безногий инвалид в укороченной до размеров пиджака шинели. На обе культи его были надеты брезентовые чехлы, по брезенту перехлестнут широкий ремень, притягивающий культи к тележке. По обе стороны лежали деревянные колодки с ручками, ими инвалид отталкивался от мостовой, передвигаясь. Инвалид не хрипел пропито, как случалось слышать Павлу: «Братья-сестры, подайте несчастному калеке, за вас пострадал». Не пел слезливо под гармонь. Сунув глубоко руки в карманы шинели, сгорбясь, сидел он молча, недвижно глядя перед собой в тротуар. Возле него на лежащем на снегу лоскуте валялись несколько медяков. На голове инвалида по самые глаза надвинута была армейская шапка, худое лицо обметано двухнедельной седой щетиной, и, седоватые тоже, нависали над нижней губой усы. Павел взглянул на него вскользь, взглянул еще раз и вздрогнул, попятился к забору. Что-то очень знакомое увиделось ему в облике инвалида. Баба, следившая за покупателем, тоже оглянулась. От ворот ее окликнул кто-то.
— Держи, — передал ей фуфайку Лазарев, а сам отступил еще, за спину инвалида.
— Чего ты? — торговка недоуменно поглядела на Лазарева. — Передумал или как? Что?
— Не пойдет, мала, — Павел старался говорить тише. — Не найду другую если, куплю.
— Так какого же ты черта щупаешь ее битый час! — обозлилась баба. Отошла, ругаясь.
— Павел отступил опять, назад и в сторону, к дереву самому, встал за спиной инвалида. Постоял несколько, зашел с другой стороны и сразу понял, что обознался. Выгреб из кармана ватника несколько медяков, тряхнул их на ладони, громко сказал:
— Держи, пехота! — и положил деньги на расправленный лоскут.
— Ай! — очнулся, резко дернул головой инвалид. Голос сиплый, треснутый. Незнакомый. Повернул чуть лицо, глянул прищурясь. И отвернулся сразу. Стал собирать пятаки. А Павел все стоял около. Он уже убедился окончательно, что обманулся. Просто смотрел на калеку. Тоже фронтовик. Может, воевали рядом. Вот судьба...
— Инвалид, собрав медяки, спрятал их в карман шинели. Взял колодки и, ловко опираясь ими о тротуар, быстро покатил краем улицы. Павел тягуче смотрел ему в спину. Оглянулся: возле базарных ворот торговка с фуфайкой. Человек рядом, примерять нацелился. Лазарев развернулся — и туда. Черт, перехватит фуфайку, где вторую такую найдешь? Надо бы сразу купить, а он прицепился к тому, в шинели. Обознался... Разве мог за шесть лет так измениться человек? А похож здорово...
Фуфайку он отвоевал. Да тот мужичонка не шибко-то и хотел купить ее, так, куражился больше, а у самого, поди, ни копейки. Лазарев прямо вырвал фуфайку из рук, отсчитал деньги. Сунул покупку в мешок — ах, какая одежина, вот Евдокии радость! Отошел к стене базарной и тут только опомнился: «Поторговаться бы надо! Фу ты!» Глянул: мужичонка с бабой рядом уходят, разговаривают мирно. Не торопятся.