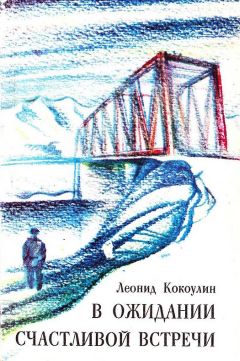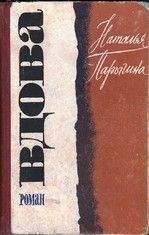Александр Плетнёв - Шахта
Вроде не особо круто поднимается улица, но дом Свешневых высоко, по-птичьи взлетел над городом, над долиной. Михаила внезапно объяла безотчетная радость: сколько увидеть можно сразу, душой отдохнуть! Как повезло ему со второй родиной, какая она просторная, оглядистая! Все тут перед глазами крупное и спокойное, и потому чувства большие в сердце родятся и зовут к жизни несуетной и крупной. Дед Андрей в двадцать третьем году, когда отпартизанил, мог бы приткнуться в устье распадка, рядом со своим бывшим командиром Яковлевым. Но рвался он вверх через заросли лесные, поперек склона дорогу ладил, земли перевернул сотню кубов, чтобы мило получилось да навсегда. Знал, подберутся с годами застройщики к нему, но никто не смог дом срубить выше: больно крут склон.
Городок вдоль долины пролег с запада на восток километров на десяток. Угольные пласты начинались с поверхности, с южного края долины, и уходили полого вглубь, так и город расположился. До революции тут поселок был, в лесах весь стоял. Капиталист Савельский копями владел, уголь ковырял почти с поверхности. Поверхностные воды заливали его шахтенки, размывали породу, и отплывала та порода в стволы. Савельский, видно, с досады и назвал поселок — Плывунный. Теперь-то за углем далеко и глубоко залезли, шахта «Глубокая» уже под самой деревней Бобровкой уголь берет, под прародиной Валентины.
Прадед жены Павел Туров со своим воронежским сельчанином и дружком Василием Караваевым в конце прошлого столетия почти полгода култыхались по жарким морям до Дальнего Востока. Деду Андрею двенадцать лет было в ту пору, а помнил ясно, как отец его заболел тоской по родной степи, как полз он по палубе за офицером, умолял, чтобы повернули корабль домой, не повернули, конечно. Начальство не велело селиться в степи, которую сулили, когда подбивали на переселение, указали на долину в пяти верстах от Плывунного, в зарослях диковинного леса, сплошь перевитого, заплетенного, как канатами, лимонником да виноградной лозой.
Рассказывал дед Андрей Михаилу, что отец его отказался корчевать лес под пашню и занялся охотничьим промыслом. Полюбил или нет новую землю — неизвестно, но воевать за нее пошел в отряд Яковлева в двадцатом году, вместе с сыном Андреем определился. Получил три раны и от них же умер в Бобровке. Три месяца страдал с развороченным осколками боком, простреленной рукой и плечом — и ни слова, ни стона. И телом неподвижен был, ни разу не вздрогнул, не шевельнулся от боли, только глаза вычистились, высветлились, будто, скопив в себе все остатки жизни, что-то выискивали, выискивали на плахах потолка. А когда и они стали гаснуть, тогда и по телу его прошла дрожь, словно стряхнул он с себя бремя бытия, и спаянные жаром губы раскрылись: «Степя, степя... Воля!..» — услышал дед Андрей последнее от отца.
Дед Андрей принял завет: коль земля, так чтобы бескрайняя, чтоб не тыкаться носом в коряги, не отковыривать ее у леса по сажени; а к охотничьему промыслу душа не потянулась, двинулся он на шахты Плывунного, где гулял в комсомольских вожаках односум по партизанскому отряду Петр Караваев, бобровский земляк и ровесник деда Андрея. Он, Петр Караваев, собственно, и обещал деду работу крутую, почетную и навсегда, коль уж отбился от земли настоящей.
Навсегда строил дед Андрей дом под самым гребнем сопки, должно быть, степная кровь просила после тесной шахты простора глазам и душе. «Спасибо, дед, тебе», — думал теперь, стоя на крыльце, Михаил.
От дома и навеса-козырька над крыльцом, что поддерживался двумя точеными стойками, тянулась четкая тень, к тому ж ветерок проснулся, потянул то ли из сырого сада, то ли со дна распадка, от шалой воды. Михаил зябко вздрогнул, очнулся от далеких мыслей и пошел за дом, в сад. Солнце ударило в глаза, он прищурился, огляделся и ахнул про себя: сад был избит, вытрепан, землю завалило еще не отжившей листвой, мелкими сухими сучьями, ветви были почти голые, будто кто-то огромной рукой пропускал их меж пальцев, обдирал листву. Сквозная, прозрачная пустота! Сад, казалось, избавился от всего старого, отжившего, и Михаилу подумалось: как вовремя пришло очищение сада, ибо в последние годы как ни подстригал, ни подпиливал, но из-за какого-то внутреннего своего состояния оставлял то, что не нужно бы было оставлять. Он стал замечать за собой, что все больше ему нравилось, как, перерастая забор, чертоломом перли вверх и вширь кусты смородины, как сад все гуще смыкался кронами, образуя сплошной шатер тишины и задумчивости, и со всем этим душа Михаила жила в покорном, замирающем согласии. А тут, после бури, ударило в глаза синью воздуха через четкую вязь веток, и увиделось сразу: как много еще в саду лишнего, и он удивился сам себе: «Это что же я, елки-палки, задремучился-то? Бури, видно, тоже в пользу — не только приглохшие сады очищают». И тут же внутренне содрогнулся, опал душой, увидев разорванную яблоню. «Я тебя загубил, а не тайфун! Деда Андрея не послушался, глупый, не спилил вовремя пологое отстволье», — жалел дерево, хоть и осознавал, что яблоня свое отжила. В разрыве виделась коричневая трухлявость внутренности основного ствола, а два других отстволья держались на коре да на тонком слое заболони.
Михаил решил тут же спилить яблоню и выкорчевать корни. Ствол в комле был рубчат, железист — это он почувствовал, как ударил топором и яблоня не впустила жало топора, отбросила топор. Пилить одному было тоже несподручно, и он позвал Сережку, а у того тянуть пилу силенок не было — только направлял ее ход.
— Отойди подальше, — сказал сыну, — зашибет.
Сережка поднял раскрасневшееся, потное лицо к кроне, пожалел.
— Не с той стороны запилили, поломает вишни.
— Подопрем, не пустим!
Сережка ткнул лицо в изгиб локтя, промокнул пот рукавом, нахмурил бугорки надбровий, озабоченно поглядывал то на вишневые деревца, то на яблоню.
«В деда Егора... Ну, вылитый... — внезапно открыл для себя Михаил. — Если по крутой посадке головы сравнивать, по монгольскому разрезу глаз с припухлыми подушечками век. Опять же — и на деда Андрея. Повзрослеет когда, нос, как у того, зашишкатится».
Михаил, задумавшись, стоял с топором в руках, от корня по стволу медленно подымал глаза, и какая-то тяжесть поджимала грудь. «Ну, вот и кончилось», — думал, а что кончилось, объяснить себе не мог. Жизнь ли дерева кончилась — свидетеля жизни ушедших на вечный покой, свидетеля и его, Михаила, молодости, а может, в самом что отошло навсегда, оборвалось зовущее, порывистое и гордое, когда душа вдруг будто ни с чего заволнуется, зарвется: я все могу, я взлечу, да не сяду! Отлетал. Ноги все плотней к земле притягивает, сердце опросталось от восторгов, не пьянит его шалой кровью беспричинно, нежность в нем строгая да думы заботливые.
Михаилу иной раз чудилось, что он живет две жизни, что родился сразу в двух местах: там, в черноземной степи, где обойди все до окоема, а камешка даже с воробьиное яичко не найдешь, и тут, где взнялись сопки из дробленого камня — некуда лопатой ткнуть, все звенит... Для него эти две земли, расположенные за шесть тысяч километров одна от другой, будто сдвигались, сливались воедино.
Теща-покойница говорила про погибшую теперь яблоню, что будто бы дед Андрей выбирал саженец особый, трехствольный, чтоб тенистая была; площадку на склоне выровнял для посадки и какой-то травы насеял — сколько ни растет эта трава, а все маленькая, но густая до того, что пальцами до земли не процарапать. Под этой яблоней дед с отцом Валентины спали после ночных смен.
Да, разудивительно! Может быть, в тот же год родной дед Михаила, дед Егор, на его настоящей родине посадил в дальнем углу огорода березу. А уж к памяти Михаила береза в большой силе была, и под ней тоже спали дед Егор с отцом Михаила. Они ночами пасли скот, а днями копали силосные ямы.
После завтрака мать выносила под березу тулуп и подушки, и Миша падал на них, кувыркался, с нетерпением ждал медлительных взрослых, а те еще долго сидели на крылечке, босые, в нательных рубахах, взопревшие от чая, тихие и полусонные, дразнили в себе разламывающую тело усталость перед сном и разговоры вели словами тяжелыми и вялыми, как сами. Но и спорили в ту пору они часто. Помнится, они доспорились до ругани, дед Егор ушел под березу, по-собачьи озираясь, точно боясь нападения сзади.
— Ухи распустили, ку-у-да те! А я не верю германцу, режь — кровь не потечет, не верю! У него вон ось тройная. Хряснет ей, осью-то, из-за затенья...
Дед опускался на тулуп сперва на колени, выгнув костлявую спину, упирал в землю тяжелые кулаки, похожие на обструганные древесные корневища-смоляки, и, вывернув дощато-желтые от мозолей ноги, стоял несколько минут, уткнув взгляд в ствол березы, будто язычник при молитве. Казалось, он боялся успокоить утомленное работой тело — вот ляжет, и что-то случится с ним, не поднимется оно, тело, не подчинится воле разума.