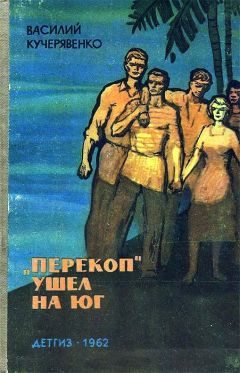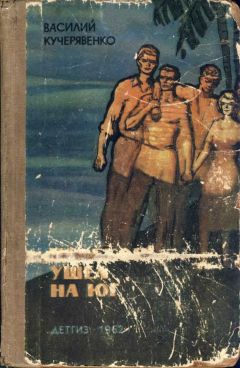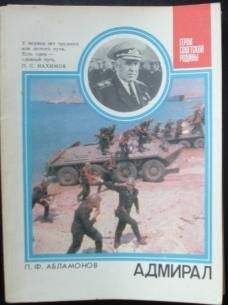Владимир Жуков - Хроника парохода «Гюго»
Снялись со швартовых на следующий день. Поговаривали, что путь неблизкий, в Англию. Аля ухмыльнулась: «Знал бы Борис! Не по карте — по настоящему морю».
Еще раз подумала о Сомборском, когда у самого горла Белого моря повстречали первый конвой союзников. «Турлес» шел в кильватер за военным тральщиком — так теперь проводили торговые суда. А конвой тот двигался по всем правилам: транспорты в три ряда, эсминцы по краям, в небе гудят моторы.
Аля как раз сменилась с руля, стояла на мостике, когда поравнялись с конвоем. В бинокль можно было хорошо разглядеть и чужие, непривычные флаги, и ящики, плотно забившие палубы, и маленькие пушки в круглых, будто обрезанные стаканы, банкетах. Эсминцы устало сбрасывали с острых носов белую пену. Они жались к медлительным, глубоко осевшим торговым судам, и Аля вспомнила Бориса, его морскую игру. Со вздохом вспомнила, как потерянное навсегда.
У входа в Кольский залив тральщик отстал, вскоре его поглотила дымка, густо застилавшая берег.
«Турлес» отвернул к северу, ходко пошел в одиночестве, все сильнее раскачиваясь на пологих волнах. Они катили из дальних, таинственных полярных областей. И если бы не торчал теперь капитан все время на мостике, если бы не приказ его подвахтенным не исчезать с палубы, зорко наблюдать за небом, за поверхностью моря, то можно было подумать, что и войны никакой нет.
Аля, когда заступала на руль, посмотрела на капитана впервые близко и очень внимательно. У него были тяжелые, мохнатые брови и сердитые глаза. Заметив Алю, он, однако, улыбнулся, сказал совсем не по-капитански: «Здравствуйте», — и она, оробев от простого, совсем не подходящего к месту слова, ответила так же: «Здравствуйте» — и застыла у штурвала, ломая голову, встретил ли ее капитан с иронией или по-доброму.
Нет, пожалуй, по-доброму, как и другие, внизу, команда. Один так в первый же вечер, за ужином, в любви объясняться стал. Шутил, конечно, — на людях как иначе?
Весельчак он, этот Алексей-машинист. Поел первым и сидит бренчит на гитаре. И среди куплетов все к ней, к Але: «Не про вас ли? Эх, зачем мы на пароходе, а не на бережку!» Аля краснеет, смущается, а он, балагуря, выведывает ее биографию. И нельзя не ответить, неловко, другие тоже прислушиваются, видно, интересно им, как это женщины стали попадать в матросы первого класса.
А один из угла прямо ел ее глазищами. Плечи как у борца, сразу определишь — кочегар. Смешно: такой огромный, а все зовут его Славик. И такой спокойный. Вот уж, глядя на него, не скажешь, что судно, может, в эту минуту находится в перекрестии немецкого перископа. Да и другие, впрочем, не нервничают.
Алексей-машинист, так тот пел свои песенки и когда радио приняли с английского теплохода, который шел где-то милях в трехстах по курсу. Не радиограмма, а вопль: «Атакованы авиацией, горим». Конечно, никто об этом по пароходу не сообщал, но слух просочился из верхних рубок вниз, в столовку.
Владислав тогда наконец разжал губы.
— Может, уберешь бренчалку-то? Тонут ведь люди.
— А я что, насмехаюсь? — Гитарист прижал струны. — Ты, Славик, прислушайся ко мне, а не к своим тревожным мыслям. «Н а п р а с н о с т а р у ш к а ж д е т с ы н а д о м о й, е й с к а ж у т — о н а з а р ы д а ет...» — пропел он и глухо оборвал аккорд. — Эх, братцы, а ведь все старушки на свете одинаковы — и английские и русские! Всем горько на душе, когда их сынки пропадают в соленой купели.
Владислав больше ничего не сказал, и другие, кто был в столовой, молчали.
Аля обвела всех взглядом. Такими же хмурыми, озабоченными люди бывали по утрам, когда радист приносил свежую сводку, — обсуждали дела на фронте, гадали, как дальше пойдет война. И Аля со всеми обсуждала, а теперь ей вспомнилась мать — живет где-то в Ташкенте, таком далеком и незнакомом, что его и представить нельзя, и подумала: «А обо мне родные ничего толком не знают, и долго, очень долго не будут знать».
Алексей снова провел по струнам, и опять у него получилось: «Н а п р а с н о с т а р у ш к а...» И все молчали.
После вахты, ночью, Аля забралась на койку одетая. Смутное беспокойство не оставляло ее, хотя наверху, на мостике и в рулевой, внешне было по-прежнему, как и в прошлые дни. Капитан все так же находился наверху, встретил ее улыбкой и «здравствуйте». Это стало у них какой-то игрой. Аля улыбалась всякий раз в ответ и тоже говорила: «Здравствуйте». Да, все было по-прежнему, даже курс тот же, как и на прошлой вахте, — 258 градусов, да только беспокойство пришло и не отставало.
Задремала и тотчас проснулась; лежала без сна, словно ожидая чего-то. А через полчаса загремел колокол громкого боя.
Аля выскочила на шлюпочную палубу, комкая спасательный нагрудник. Один за другим выбегали все, кто был внизу. Вертели головами, бросая тревожные взгляды на густо-серые, в пене волны, в белевшее как бы в немощном рассвете небо.
Сильно качнуло, и Аля поняла: круто сменили курс, уже не обращали внимания на то, чтобы идти против зыби. Глянула на мостик. Там был вахтенный штурман и рядом капитан в дождевике с нахлобученным капюшоном, из-под которого торчал бинокль.
— Вона, вона они! — крикнули рядом. — Заходят.
— Эх, три самолета... Точно. Туманчик бы сейчас, А то ишь разгулялось!
— Заткнись!
— По курсу, гляди, по курсу заходят!
Аля ухватилась за шлюпбалку. Вот горе! И стрелять нечем. Хоть бы пулемет какой... Она еще выше запрокинула голову: самолеты летели уже почти над судном.
Надрываясь на полном, самом полном ходу, билась внизу машина, но ее удары не могли пересилить гул моторов, лившийся с неба. Казалось, именно истошный воздушный рев и должен был раздавить, разрушить пароход, послать на дно. Но ухнуло рядом, разорвалось где-то у борта, рванулась фонтаном вода, и стало ясно, что будет дальше.
«Турлес», заваливаясь на борт, опять сменил курс. Три новых столба воды почти разом взметнулись у самого его борта. Еще поворот — теперь обратно, как заяц, путать следы. Но гончие по следу идут, рядом они. И не охота это — расстрел.
Лопался, разрываясь на части, воздух. Дрожала, сотрясаясь, палуба. Суетились у шлюпки люди. Аля тоже сдирала чехол, поправляла тали. Кинулась к другой шлюпке, споткнулась, упала. Над леером вырос новый фонтан. Палуба косо пошла вбок, тяжело вздрогнула. Нет, надо встать, идти. Что это с машиной? Такое впечатление, что остановилась. А самолеты? Откуда их столько, было же три... Она добралась наконец до шлюпки, но та уже была готова — висела над кипящей, изрытой волнами водой.
Последнюю шлюпку спихнули с кильблоков кое-как. Где-то по ту сторону рубки ухнуло громче всего, и заложил уши боцманский крик: «Шла-а-нги! Гори-и-ит!»
У шланга шершавая кожа, разлегся, надулся сытой змеей. Голова змеи уползла в желтое и черное. Черного больше. Клубится, не дает дышать. Хорошо, что быстро воду из машины дали. Еще бы, еще, вон как мостик обдало: костер, прямо костер! А палуба забита лесом, груз — доски, бревна. Утонуть не скоро дадут, а гореть, ох гореть будут!
Черно кругом, прямо ночь. Где там боцман? Аля, пригнувшись, напряглась, потащила шланг вперед. Шаг, еще, вот теперь лучше. А где же самолеты, что еще натворили? Трещит все вокруг. Глоточек бы воздуха, один глоточек, капельку, и смотреть — как бы сделать, чтобы можно было смотреть?
Сквозь клочья дыма проглянуло белесое, изумленное небо.
Мачты, желтая груда досок, стянутая цепями. Слева, совсем рядом, рубка, серое облако, вырывающееся из окна, сносимое ветром назад, за высокий цилиндр трубы.
Аля удивилась, что она на мостике: не заметила, как забралась сюда, волоча следом за боцманом тяжелый, будто свинцом налитый шланг. Тугая струя рвалась из рук боцмана, хлестала по рулевой, ниже, вбок, на палубу и снова вверх. Откуда-то снизу ей помогали еще два изогнутых водяных столба, хрипящих, в бусинках разлетающихся брызг. Они жадно слизывали огонь, и только дым по-прежнему густо валил, стлался клубами почти горизонтально.
«Где же самолеты? Улетели? Всё уже?» Аля подняла голову, щурясь, смотрела ввысь, не видя ничего, кроме мелких облачков, пока ее не сшибло ударом, судорогой, прокатившейся по корпусу «Турлеса», пока она не повалилась назад, на самый край мостика, исковерканного еще раньше бомбой...
— На бак! Давай на бак!»
Она узнала голос старпома и, обдирая руки о железо, поднялась, кинулась за ним, срываясь со скользких ступеней на занозистое дерево палубного груза. Впереди бежали еще двое, слышался тяжелый, неровный топот.
Вот и фок-мачта, теперь спрыгнуть, удержаться. В люк, ниже, в темноту. «Где-то бурлит вода. И палуба на баке разворочена. Как холодно! Кто это? Он, опять старпом. И еще двое. Да, да, сейчас!»
Тяжелую тушу брезента еле вытолкнули наверх. Тянули тросы, торопливо разматывали. С треском по борту развернулись штормтрапы. Аля перекинула ногу через планширь, но ее столкнули, почти скинули обратно на палубу — полезли другие. Она не обиделась, пусть. Потащила трос, обводя через форштевень, на барабан брашпиля.