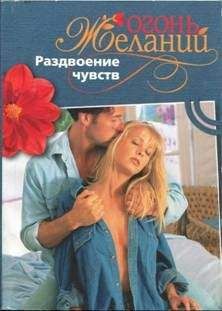Евгений Наумов - Черная радуга
Впереди нарастал рев.
— Залом! — я всматривался, но ничего не видел.
— Бей влево! — закричал охотник. Я греб так, что тоненькое весло гнулось. Рев прокатился мимо, но впереди возник новый.
— Бей вправо! — Действительно, когда несешься по такой осатанелой реке, нужно не грести, а бить, ударять веслом по тугой воде, отталкивая лодку от опасного места. — Бей вправо!
По-прежнему ничего не видно. Митя не филин, вряд ли он видит лучше меня. Как же ориентируется? К тому же, будь он хоть трижды всевед-таежник, он не может знать, если впереди только что упала лесина и перегородила реку или корягу сорвало и несет по камням.
Но эти рассуждения пришли потом. А тогда меня охватило несравнимое ни с чем чувство восторга, слитности с окружающим миром, скорости и острой опасности. Мы летели вперед, охваченные каким-то первобытным звериным чувством. Это была настоящая жизнь!
Справа смутно забелело узкое, длинное. Коса. Лодка с ходу влетела в залив, вода шумно плеснулась за кормой. Здесь тишина… сонная вода. Иной мир.
Тучи ушли за перевал, и ярко-звездное небо опрокинулось на залив. Казалось, лодка плывет по светлому небу, усеянному яркими точками, а над нами течет река с их отражением.
В заливе падали капли с листьев, булькали сонно рыбы. Кто-то завозился на берегу, потом стихло.
— Ушел… — прошептал охотник.
Светало, когда вышли из залива. Симанчук вдруг включил мотор и на полном ходу погнал лодку вверх. Это было еще покруче: летящие в глаза смутные тени, ревущий ветер и светлая дрожащая тропка впереди…
Опять высадились на той же косе, выбрав местечко повыше.
Постелив палатку, лежали на камнях и дремали, ожидая, когда рассветет. Мокрец, комары и прочий гнус навалились черной тучей, я полностью законопатился в капюшон, дыша куда-то в камни, а Симанчук колотил их на себе — глухие монотонные удары. Я задремал, но вскоре проснулся. Казалось, рядом забивали молотом быка.
— Ты бы закутался… всех не перебьешь.
— Пора уже… — со злостью буркнул он. Коса стала хорошо видна, даже разноцветная галька на ней различалась.
И вот я снова в заливе пантачей. Где же они, эти неуловимые сторожкие существа? Гребу, стараясь зевать без хруста в челюстях и без подвывания. Прошел залив из конца в конец, но никого не увидел. Пришлось возвращаться.
Никогда бы не подумал, что встречу его на обратном пути. И, повернув с последнего плеса в протоку, растерялся от неожиданности: сразу за поворотом стоял пантач.
Он стоял по колено в темной тяжелой воде, подняв голову, и редкие капли срывались с его бархатной нижней губы. Теплый рыжий мех на спине и боках был густой, ухоженный, будто оленя ежедневно расчесывали щетками. На животе он темнел от росы. На панты я не посмотрел, лишь осталось впечатление чего-то массивного, изящного, что венчало голову… А глаза… Глаза зверя полыхали темно-фиолетовым огнем и, неподвижно сосредоточившись на мне, будто вопрошали: «Кто ты, чего можно от тебя ожидать?»
И тут дало о себе знать мое дурацкое изобретение. Вместо того чтобы бросить шестики и схватить карабин, я осторожно вытащил их и принялся укладывать на тряпку. При этом я заискивающе-глупо улыбался пантачу, словно улыбка могла усыпить его подозрения.
Но едва моя ладонь коснулась карабина, глаза зверя сверкнули. В тот же миг большая мокрая ветка хлестнула меня по лицу: то оморочка, верная себе, полезла в кусты. Когда я открыл глаза, пантача не было. Только вода на том месте дрожала…
Но никогда я не пожалел, что карабин мой так и не выстрелил. Видение прекрасного зверя ранним утром в заливе, чуть затянутом кисеей тумана, навсегда осталось в душе и вспоминается теперь в самые тяжкие минуты, согревая сердце.
Симанчуку я ничего не сказал, и вскоре мы отправились вверх. Кончались продукты, и мы взяли наконец курс на Улунгу. Тяжело забилось сердце.
Река на глазах становилась мельче, заломы попадались чаще. Здесь тянулись высокие глинистые берега с тонким слоем плодородной почвы сверху. Вода подмывала их, обрушивала. На перекатах мне приходилось ложиться на нос лодки, чтобы поднималась корма с винтом: слишком мало воды.
Рубленые, почерневшие деревянные домики, там и сям разбросанные по берегу, открылись за поворотом.
— Улунга!
У крайнего домика нас встретил старик с дремучей бородой, в серых вылинявших штанах и расстегнутой клетчатой рубахе, босой, несмотря на моросящий дождь.
— А-а, гости! Милости просим! — тоненько протянул он и указал на крыльцо. — Садитесь, чего стоять! — вдруг басом добавил он.
— Где тут метеостанция? — голос мой прерывался.
— Во-она каменка под антенной, — снова фистулой пропел старик и тут же перешел на бас: — Только там сейчас никого нет — они на измерения ушли.
— Как нет? А врач?
— Девчонушка-то? Хо-о-орошая девчонушка… м-да. Улетела она. Как меня привезли, с тем же вертолетом и улетела.
Без слов я опустился на крыльцо. Старик, не замечая моего состояния, продолжал говорить. Он из старообрядцев-раскольников, которые конфликтовали с кем-то еще в библейские времена, бежали в тайгу, и «всех она укрыла, родимая». А недавно у него заболело горло. Девчонушка-врач осмотрела его и сказала, что немедля нужно ехать в краевой центр. Вызвали вертолет. Она и сопровождала его. В краевой больнице ему немедля сделали операцию. Полежал немного и стал проситься назад.
— Не могу, понимаешь, без тайги, задыхаюсь в городе…
Теперь у него два голоса, но врачи и «девчонушка» сказали, что это со временем пройдет.
— Все со временем пройдет, и я сам… пройду… — вздохнул он. — А девчонушка-то этим же вертолетом и улетела. Что-то узнала в городе, сильно расстроилась… Эх, дела сердешные!
«Может, меня искала? — обожгла мысль. — А я тут комарье кормлю…»
Как бы понимая мое состояние, Симанчук в тот же вечер выехал из Улунги. За два дня, остановившись лишь на ночевку, стремительно облетая заломы, мы спустились в Красный Яр. Оттуда я снова выехал во Владик.
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
Я пришел, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс.
С. ЕсенинВ борьбе с самим собой он неизменно терпел поражение. Вот и сейчас, глядя, как его владивостокский друг неторопливо поднимается навстречу, он чувствовал: отчаяние и чувство-бессилия охватывают его все сильнее. Что-то тут нечисто, что-то-нечисто… И вдруг он явственно увидел — глаза идущего навстречу горят красноватым огнем!
Первым побуждением было прыгнуть через парапет и ушиться в сеть переулков, которые он хорошо знал. Но едва положил руку на холодный камень, как обнаружил, что это железный борт корабля. Глянул вниз — серые волны катились чередой. И опять в сознании все сместилось! Значит, он все-таки на дизель-электроходе.
Где-то слева послышалось шипение, налетел клуб пара, остро-пахнущий вареными крабами. Он увидел длинный широкий конвейер, оканчивающийся крабоваркой — большим баком, в котором день и ночь кипела вода. Под ногами что-то захрустело — то были разбросанные крабовые клешни. И тут он успокоился — все связалось логично, без пугающих разрывов.
Он находился на плавзаводе, флагмане краболовной экспедиции «Хинган». Как сразу не догадался! А навстречу идет не кривоносый неизвестный художник, а очень даже известный механик Валя Коротков, рационализатор «золотые руки». Да, это он: замасленная роба, карман на колене, из которого торчат плоскогубцы, неизменная извиняющаяся улыбочка. Горели красноватым огнем не его глаза, а две сигареты, зажатые в углах рта.
— На, — вытащил Валентин одну сигарету, — специально для тебя только что присмолил.
— Ну спасибо, — Матвей жадно затянулся, но что-то внутри продолжало мелко, противно дрожать. — Ты чего там делал внизу?
— Краденые консервы перепрятывал, — Валя лукаво подмигнул. — И твои два ящика. Просил ведь?
— Где они?
— Сам господь бог не найдет. В двойное дно запроторил. Мало ли у меня схованок? Ишь, надумали вселенский шмон навести…
Строго говоря, консервы не были краденые. Просто во время технологического процесса часть банок деформировалась — обычный брак, а поскольку партия шла на экспорт (все крабы ныне шли на экспорт), то они подлежали списанию и выбрасыванию за борт, о чем полагалось составлять акт. Раньше эти консервы реализовывали среди команды, но какому-то сверхпринципиальному дуболому пришло в воспаленную голову, что команда будет умышленно деформировать банки, чтобы нахапать их побольше. А чего их деформировать, если за глаза хватает того, что само деформируется, — оборудование старое, сбитое. Короче, никаких разговоров: банки выбрасывать за борт, и точка. Пусть лучше сгниет продукция, чем достанется простым труженикам. Знаем мы вас! Станет кто-нибудь у конвейера с молоточком — и ну тюкать по банкам. Видимо, дуболом руководствовался собственной психологией.