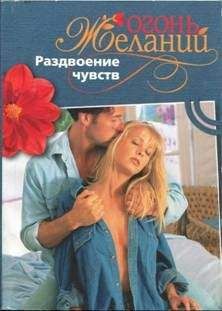Евгений Наумов - Черная радуга
Поднялся, держа в одной руке весло, а в другой — оморочку. Перевернув ее, потряс, потом опустил и попытался сесть, но снова перевернулся. Оморочка все казалась мне какой-то ненастоящей. Вдруг она скользнула, и я оказался на середине Бикина. Я сидел, подняв весло над головой и боясь пошевелиться, а стремительное течение все дальше уносило меня от косы. Наконец осторожно гребанул веслом раз, второй… и врезался в противоположный берег.
— Не напрягайся, — подал совет хозяин, пока я выбирался из ила. От ледяной воды сводило ноги.
Целый день я гонял на посудине взад-вперед мимо косы, на которой мы расположились табором, и к концу дня научился довольно прилично управлять ею.
Когда мы вернулись в зимовье, Канчуга, небритый и сонный, сидел со страдальческим видом на нарах.
— Уезжаю, — сказал он. — Лечиться надо. Нет мочи в залив ходить.
Клещей он нахватался на солончаках. И я в который раз порадовался, что не пошел в Улунгу напрямик, как предлагал охотник Могильников, соблазняя лабазами. На лабазах у Могильникова стоял аккумулятор, а с собой он таскал мощную фару. Услышит зверя, включит фару и бьет с дерева.
— И не убегают звери от света?
— А чего им убегать. Они думают, что это молния. Поднимут голову, я выключаю свет. И все тихо.
— А пантачи ходят?
— А как же! Они любят солончаки…
Тогда я чуть не решился. А теперь, глядя на мучения Володи, поблагодарил случай, который свел меня с Симанчуком. Явиться в Улунгу увешанным гроздьями клещей… Бр-р-р!
Могильников любил повествовать о своих охотничьих подвигах. Похожий на Дон Кихота, только без усов, но с трехдневной щетиной на щеках, в кепочке-восьмиклинке с пуговкой, в порыжевшем пиджачке и болотных сапогах с раструбами. Каждый его рассказ заканчивался неизменно:
— Я прикладываю карабин, ка-ак врежу! И тр-р-рупом!
Однажды на лабаз вышли сразу четыре медведя. Он успел свалить одного, остальные удрали.
— Если бы ветер не потянул в их сторону, все бы они легли у меня тр-р-рупами… Там мой лабаз на двадцатиметровой липе.
По некоторым неуловимым признакам, крикливой манере рассказывать, отставив ногу в сапоге, жестикуляции и бегающим глазкам я вдруг определил: трепач. Охотники подтвердили:
— Это брехун номер один. Все жениться приезжает, да никто за него не идет.
Едва затих вдали стук Володиной моторки, Симанчук стал быстро-быстро собираться.
— Куда? — спросил я. Не хотелось слезать с нар.
— Залив один посмотрим, — он почему-то озирался. — Быстрее!
Стоял еще день, и было непонятно, к чему такая спешка. Мысленно застонав, я поплелся за ним.
Симанчук обладал удивительной способностью находить нам работу. То он рубил дрова («про запас», хотя какой запас нужен в тайге — кругом дрова!), то копал червей, то мастерил удочки. То вдруг останавливал лодку и лез в глухомань искать топор, оброненный якобы здесь неизвестно кем еще при царе Горохе. Не буду же я сидеть сложа руки, когда рядом кипит бурной деятельностью мой напарник и наставник!
Тот самый охотник, почетный стрелок Дима Пикунов, которого я расспрашивал, как добраться до Улунги, посоветовал идти с пантовиками:
— Охотиться по ночам, а днем отсыпаться, идти вверх. Такова пантовка.
Наверное, он никогда не охотился с Симанчуком. Я не помню, чтобы мы спали днем. Ночью тоже. Поэтому я все время был в сомнамбулическом состоянии. Как-то за кормой упало дерево. Оно рухнуло в воду, подняв фонтан брызг, и переломилось от удара надвое.
— Вовремя проскочили! — обрадовался Симанчук, и мне пришлось мучительно размышлять, чему он радуется, пока не догадался, что с тем же успехом дерево могло свалиться на лодку.
Вот и теперь я никак не мог понять, куда так торопится охотник. Тем более что и залив был никудышный, на мой взгляд Вход в него оказался настолько узеньким, что его целиком заслонял куст ивняка, и посторонний никогда не догадался бы, что за ним что-то есть.
— Ишь, куст не рубит, прячет залив, думает — не знаем, — бормотал Симанчук, пока лодка продиралась под ветвями. Потом ее понесло течением, и мы оказались в протоке. Но вот справа опять появился куст, прикрывающий другой ручеек, по которому лодке пришлось ползти по песку, как угрю. Вдруг Дмитрий выдохнул:
— Вот его залив!
Я оглянулся, и сонливость слетела с меня, как паутина. Это был неописуемой красоты залив. Лодочка стояла на краю громадного глубокого плеса. Вокруг, как колонны в соборе, уходили ввысь стволы исполинских деревьев, кроны которых целиком заслоняли солнце. Только лучики его сеялись сквозь сетку листьев, зайчиками ложась на гладь воды, покрытую тальниковым пухом.
Полутона, полумрак… Мы оказались в одном из тех скрытых от глаза уголков тайги, где невольно испытываешь трепет.
Симанчук напряженно всматривался в берега, испещренные многочисленными следами. Лодка оставляла в тальниковом киселе темную тропинку, которая быстро затягивалась.
— Ходят пантачи… и не один, — чуть слышно шептал охотник. За первым плесом открылся второй, потом за узенькой перемычкой — третий. Лодка лавировала среди черных коряг с седыми и зелеными бородами.
У берега в воде расплывались облачка ила.
— Недавно был здоровый… ходил тут. Пасся. Почему же Володя не свалил ни одного? За-а-агадка…
Мы вернулись в протоку с быстрой водой, потом — на Бикин.
— Ну что, — деланно-безразличным тоном спросил Симанчук, — будешь в одиночку охотиться? Можешь в этом заливе…
— Если позволишь… — голос у меня осекся.
— Ладно.
Тогда я ничего не понял. Но потом, во время бессонных ночей в нарко, когда вспоминал и перебирал в памяти радостные мгновения светлой полосы, открылись и стали понятны странности Симанчука. Ведь он по-своему, по-таежному приучал меня к самостоятельности, без которой не может быть охотника. Потому и ссору затеял, а затем показал прекрасный залив.
Вечером мы поставили на косе палатку. Охотник, толкаясь шестом, чтобы не пугать зверей мотором, ушел вверх, а я на оморочке подался в залив.
Внутри оморочки имеется несколько поперечных перекладин — говоря по-морскому, ребер жесткости. Охотник садится в центре посудины, поджав под себя ноги. Две перекладины перед ним имеют чашечкообразные впадины. На них кладут карабин. Охотник гребет веслом на глубоком месте, а войдя в залив, орудует короткими шестиками. Как только он увидит зверя, шестики тотчас оставляет в воде, класть их в лодку нельзя: стукнешь — спугнешь. Поэтому в оморочке всегда несколько пар шестиков, вырезанных из тальника.
Я решил не брать столько «оборудования». Оморочка у меня так качалась и ходила ходуном, что шестики гремели по дну, а карабин грозил свалиться в воду. С этим я ничего не мог поделать, поэтому пошел на хитрость. На перекладины я положил какую-то тряпку, так что и карабин, и пара шестиков, и весло ложились на них совершенно беззвучно, не скользили. Я очень гордился своим изобретением, носился с ним и рассказывал всем охотникам, предлагая перенять ценный опыт. Но они почему-то смущенно переглядывались и переводили разговор на другое. Лишь много позже я понял, какой дурацкой оказалась моя выдумка.
Второе, что меня беспокоило, — ноги. Поскольку я не мог сидеть поджав ноги — к этому местные жители приучаются с детства, — то заталкивал их под перекладину. Это была тяжкая процедура — вбить ноги в резиновых сапогах в проем, не рассчитанный и на тапочки. По окончании процедуры я составлял с оморочкой единое целое. Я был забит в нее, как жакан в патрон, и мог уже называться оморочко-человеком или человеко-оморочкой. И старался не думать о том, что будет, если вторая моя часть перевернется. Случись это на мелком месте, я мог бы выползти на берег, волоча за собой оморочку, как улитка свой домик. А если на глубоком? От подобных размышлений спасало старинное русское «авось».
Поэтому я всячески старался ладить с посудиной, хотя такая задача, казалось, выше человеческих сил. Оморочка Симанчука была самой капризной и самой скверной из всех оморочек, выдолбленных за всю историю человечества. Я допытывался у него, где он ее взял, но он бормотал что-то о весеннем половодье, с которым ее принесло. Видимо, от нее просто избавились, швырнув на середину Бикина, а Симанчук соблазнился дармовой посудиной — себе на голову. Ее мог соорудить только косоплечий, косорукий человек, косой на оба глаза. Она была чувствительной, как сто принцесс из сказки. Малейший грубый толчок или нетерпеливый гребок — и она, осатанев, уже лезет на берег или в кусты. То и дело мне приходилось хвататься за пучки травы, чтобы остановить ее. Она не могла миновать ни одну корягу на пути — сталкивалась с нею или со скрежетом влезала на нее. А когда я оморочку стаскивал, она недовольно скрипела. Если я отталкивал ее правым шестиком влево, она лезла вправо, и все силы я затрачивал на то, чтобы хоть по миллиметру продвигаться вперед. Конечно, при этом поднималось столько шума, что не только звери, но и пернатые удирали прочь.