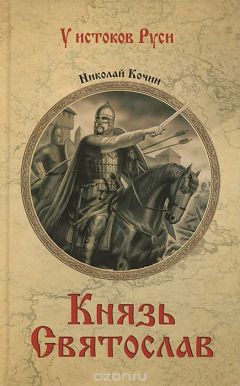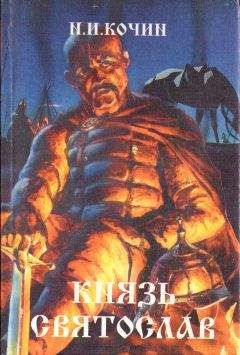Николай Кочин - Девки
Все тело у Марьи ныло, ломило руки, терялся аппетит, нападала сонливость. А по ночам муж щипал ее, совал под бок кулаки, потому что Марья была неласкова.
Исполнять желания мужа было омерзительно. Но деться некуда — такова кручина бабья.
За обед Марья садилась после всех, долго молилась, потому что видела, что свекор следит за ней. Робко брала огурец из чашки, ела боязливо, опустив глаза. Из-за стола вылезала всегда голодной.
За обедом свекор, засучив рукава, отрезал ломти хлеба, раскладывая их на оба конца стола. Надевал старинные очки, брал счеты и долго хлопал костяшками.
Говорил о налогах, о том, сколько в минувшем месяце ему задолжали крестьяне, заставлял сына переписывать имена должников на грязные листы приходо-расходной книги. Свекровь всегда намекала об особенном их положении на селе, о чванстве молодой, которая будто бы недовольна своим житьем. Марья тогда совсем теряла аппетит и выходила из-за стола:
— Благодарю вас, батюшка и матушка, за хлеб, за соль, — смиренно говорила она.
Однажды Ванька видел, как она плакала.
— Это еще что? Или дурь-то еще не прошла? Смотри, я остатки выбью! — пригрозил он.
С той поры Марья и плакать боялась, если становилось невмоготу, убегала на улицу.
Отец ее стакнулся со сватом накрепко, — засиживался у него вечерами в сообществе с Пудовым Вавилой, мозговитым старичком и хапугой, обмышлял хозяйские дела.
Однажды, развешивая за задними воротами белье, Марья услышала во дворе голос свекра:
— Голова ты садовая, кроме выгоды, ничего от этого не будет. Капитала у тебя около трехсот лежит! Гниет ведь капитал-то, ровно навоз какой... Теперь прикинь: хлеб теперь по полтора рубля пуд, через месяц половодье, на базар не проехать. Тут и пожалуйте! На эти триста рублей двести пудов у меня будет припасено, а продавать не иначе, как по два с полтиной буду. По рублю с пуда — двести рублей в кармане, за один месяц! По сотне на брата... верное дело, сам гляди.
— Доберутся, сват, — ответил отец. — Нынче такой народ пошел дотошный, пойдет слава — спекулянт.
— Полно, сват, волков бояться, так и в лес не ходить. Ну, а если какая оказии случится, так у нас в волости заручка есть...
— На тебя, сват, надежда, смотри... Я будто в стороне.
— Известное дело.
Через неделю по деревне распространился неожиданный слух: Канашев скупает хлеб по базарным ценам.
Мужики толпились у лавки с мешками и полумешками ржи, которую нужно было продать на неотложные нужды. А вскоре Егору донесли, что Федор крепко интересуется этим делом и сеет среди народа смуту.
Вечерами Марья перетаскивала мешки ржи из кладовки в сад, за баню. Там, в яму, выложенную изнутри тесом, Егор рядами складывал полумешки. Потом яму, наполненную доверху, накрыл досками, доски покрыл брезентом, брезент рогожей, а на рогожи навалил земли и, разровняв, положил на это место разбитую телегу. Все еще прятал он добро свое тем же способом, который был выработан им в период военного коммунизма. Все еще оглядывался назад, все еще вспоминал продотряды, разверстку, комитеты бедноты, контрибуцию на сельскую буржуазию...
— У каждого своя тропа, — вечерами сидя, постоянно говаривал сыну Канашев. — Сколько кобыле не прыгать, а быть в хомуте. Люди стали хуже, а человек не бог, угодить ему трудно. Царей сшибают, не токмо кого другого!.. Раньше все было проще — и грехи и наказанье. А теперь всякое понятие перекувырнулось. Кто славен да богат, тот ненавистен всем стал, кто пьянством занялся, охальник и головорез — произведен в передовые люди. На самого бога упразднение последовало.
Марья сшивала рогожи из-под овса в кути, а муж, присев на приступок печи, курил махорку, глядя в пол, и при каждом слове отца вздрагивал.
— Примечаю, — продолжал Канашев, — мудрящего дела народ пошел из голодранцев. Каждый из них убог, безнадежен, но плевать на это хочет, на первое место в государстве целит, ничего, что в кармане вошь на аркане! Наших сынов заметно заслоняют. Эх, у людей долото бреет, а у тебя и бритва не берет.
— К чему эти, тятя, слова твои? — тоскливо говорил Ванька. — И каждый вечер ни сна, ни покою.
Понимай, к чему... Растешь ты человеком незатейливого житья. Про умную бабу сказка говорится: ставила баба свечку Егорию, а другую от Егория украдкой для лукавого предназначала. Люди спросили ее, зачем это она делает? «А затем, родимые, — отвечает та умница баба-перец, — что не знаемо, куды мы угодим на том свете, або в рай, або в ад». Смекни-ка, к чему говорю.
Сын виновато отвечал:
— Нынче богатство в тягость, тятя.
— Умный ребенок двух маток сосет. Петр Петрович чиновного сословия человек, теперь волостью правит, из волостного писаря в волостные комиссары вышел. В городе в высоких комитетах принят и говорит от имени мужицкого народа. «За моей, — говорит, — спиной стомиллионное крестьянство», — а перечить ему не смей, хоть и ведомо нам, что за спиной у него один шиш. И все-таки молодчина, скажу про него я! Всякая умная тварь свою ямку находит, вперед идет, а оглядывается назад: ползком — где низко, тишком — где склизко. Слышно — организации в селе будут. Комсомол, кооперация... Приглядывайся, сын, в дружбу к ним входи, твоя жизнь вся впереди.
Сын не перечил, опасаясь скандала. Ночью, сидя на широкой деревянной кровати, невесело упрекал жену, притаившуюся под одеялом.
— Пилит, дьяволова борода, хочет меня переиначить. В молодости пикнуть не давал, а теперь направляет на политику. Все знают, какой я политик, — мне та политика, хоть бы она сдохла! Кабы холост был, такие его слова мне пустушка. А теперь у него резон: «Ты сам семейством обзавелся, для потомков умудряйся, как я для тебя спину гнул». И зачем ты за меня пошла? Ты меня не любила, у тебя сердце лежало к Федьке, а пошла... Эх ты!
— Кабы не отец, не пошла бы.
— Нынче вышли законы отцов не слушать, таким ослушницам-девкам должности дают. Плюнула бы на отца и на мать, и на всю родню.
— А ты что не плюнул?
— Я оттого не плюнул, что моему отцу все законы нипочем, он и в волости царь. Он при всем народе за волосы оттаскать может, — до смерти потом на селе задразнят. Я его страх боюсь. Вот засватал тебя — живи весь век...
Марья прижималась к стене и, открывая под одеялом глаза, отдавалась течению раздумий. В памяти всплывали пересыпанная мудреными словами, ласковая речь Федора и сам он, никогда не щипавший девок, никогда не ругавший их... Федор подходил к девкам просто, не ломаясь, как это принято у парней. Парни здороваются: «Дай лапу!» — хватают руку у девушки, жмут ее, вырывают платки, бросают их на пол, а когда девка наклоняется поднять, больно бьют по спине с приговором: «Наклонка!» Первым охальником на деревне слыл Ванька-Слюнтяй, теперешний муж ее. На гулянках он чернил лица девушкам сажей, отнимал платки и потом похвалялся ими, как бы подаренными; выпивши, хватал девок за подолы. Среди ровесников слыл Ванька скудоумным. И опять в мыслях Марьи Федор, не похожий на деревенских парней, ласковый и добрый.
Как-то раз шла она с мирского колодца с ведрами. У пожарного сарая повстречался ей Федор — намеренно задержался, попросил напиться. Сердце ее зашлось. Оглянувшись кругом, она зашептала:
— Вся душа выболела... А явиться на свиданку боюсь... Оставь меня, Федя, погибшая я.
— Никогда я тебя не оставлю. В несчастье нашем я тебя еще крепче полюбил. Слушай во всем Паруньку, она тебе от меня совет принесет.
— Нет-нет, никаких советов не надо. Только еще более несчастной меня сделаешь.
Она отняла ведро и, не оглядываясь, пошла домой. Подойдя к дому, она обернулась. Федор скрылся. А вечером в доме было известно об этой встрече, и Иван бил ее. На коленях божилась она в невинности и просила у него прощения. А за перегородкой свекровь, слушая всхлипывания молодой, говорила:
— Так, так, сынок... поучи, поучи. Не давай бабе волю с этих пор. От своего корыта к чужому рыло воротит.
Наутро Парунька явилась в Канашеву лавку. За прилавком стояла Марья.
Промеж подруг начался возбужденный шепот:
— Федор велел сказать, если только ты захочешь к нему перейти, он завтра же с братом разделится. Будете жить вдвоем.
Марья выронила из рук гирьку от волнения.
— Будем жить вдвоем! — пролепетала Марья в сладком испуге. — Ведь это, Паруня, рай, а не жизнь... Но ведь не решусь я на это. Как же я к нему пойду беременная? — Она покраснела и оглянулась. — Ни один мужик с этим не помирится — чужого ребенка растить.
— Он такой, он будет растить. Он эти старые обычаи почитает ни за что.
— Может быть, на первых порах и будет себя принуждать, а потом и выкажет нутро. А тут и меня через малютку возненавидит и станет всю жизнь корить, что взял не девушку, да еще с приплодом. Нет-нет! — запротестовала она решительно. — Пусть не выдумывает сказки. Они в городе и то не удаются.
Замолчали. Марья отсчитывала сдачу.