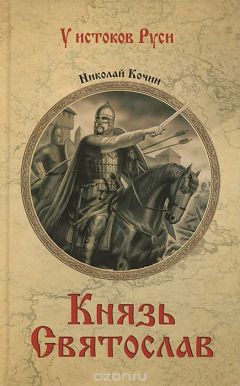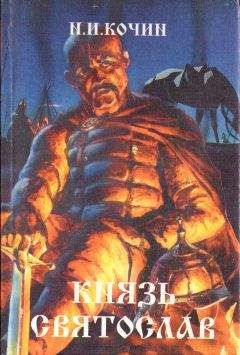Николай Кочин - Девки
По углам заиндевело. На лавках валялись юбки, на полу лежала вязанка хворосту, принесенная из рощи.
Парунька голыми пятками ломала хворостины, и треск вытеснял тишину. Затем бросала палки на середину избы, к железной печке.
— Натопим скоро. Общественным хворостом. Все равно пропадать! — говорила Парунька, поднимая подол рубахи, чтоб не запутаться в нем во время прыжка.
— Смотри, Паруха, как бы не того... С обыском могут, — сонливо тянула Наташка. — В подпол хоть бы, что ли, спрятала вязанку...
— Пущай еще раз ведут. Все равно я здесь не жилица, так и так уходить в город надо. Вольно в Сормове девки живут. А мы женихов ищем, чтобы ездили они на нас, как на скотине. Вон Марья-то, полюбуйся, за богача вышла, а горя невпроворот.
— Не все так. Кому счастье и на роду написано.
— Все одно — бабья доля. Каждый год на сносях, да еще работай до упаду. Баба в деревне и печет, и варит, и стирает, и детей рожает, и нянчит, и мужа ублажает. И за это одна ей награда — выволочка. Только и слышишь: у ней волос длинен, да ум короток.
Она зажгла лучину и сунула ее в печку. В печке тотчас же затрещало, на пол через дверку поползли полосы света.
— Вот майся весь век, как Марья, и околей без ласки, без привета. Что это за жись? Девка ровно собака: услуживай весь век — сперва своим отцу-матери, а тут мужу да свекрови, а заслужишь-то что?
— Ой, Парунька, выйти бы за богатого, — молвила Наташка. — Хоть бы нарядиться, хоть бы покушать вволю, не думать, во что одеться, обуться, не дрожать над куском хлеба. Нет, Парунька, я бы и за богатого вдовца али старика. Только бы в сытой жизни пожить, на мягких подушках поспать да самой у печи хозяйкой быть. Какие пироги бы пекла, какие щи варила...
— Дура ты, Наташка, вот что. Весь век себя не выказывай. Ровно нет тебя, за место мебели. Собраться бы бабам да девкам да забастовку сделать: не желаем с мужиками жить до тех пор, как уваженье бабе делать будете. Узнали бы! А то, вишь, сами со своим добром набиваемся.
— Девка, Парунька, девка и есть, видно, тому быть.
— Да что, не человек, что ли, девка-то?
Под вечер пришла к ним Семенова жена — Шарипа. Она села без приглашения и заговорила сразу:
— У нас здесь организуется кружок, культурно-просветительный, молодежный. Членами будут девушки и парни. Заворотили бы мы дела. Вы как думаете?
— С серпом мы и без грамоты можем в поле кружиться, — ответила Наташка. — Над грамотными у нас смеются...
Та ответила:
— Так рассуждают только по темноте.
— А откуда нам светлыми быть? — сказала Парунька. — Весь век живем, что котята слепые... Одно только озорство от парней и видели...
— Зачем же минуты терять? Пойдемте на собрание.
На поверку вышло, что народную нужду она знала не хуже Паруньки, — того же поля ягода.
Пошли садом по насту к горнице, в которую отделил Василий Бадьин молодых.
Говорил Федор:
— Всякая деревня вмещает в себе, кроме прочих, элемент в некотором смысле мятущийся, но не видящий ясных путей. Посмотри, батрачек этих около нас — рота!
— Липовая, — поперечили ему.
— Уметь следует переделать в какую надо. Теперь девушки к свету тянутся. Букварями запастись и мало-мало, полегоньку да потихоньку, глядь, пять-шесть человек — и ячейка тебе! Анныч на молодежь не облокачивается. Он за мужиков цапается, прельстить их выгодностью восьмиполки хочет, машинным товариществом. Однако одно другому не мешает.
«Хитро обводить темного человека ладят», — подумалось Паруньке, но хитрость эта ей пришлась по нраву.
В горнице было много народу, пахло дымом и разомлевшими телами. На печи, свесив ноги, расположились парни, курили. Дым заслонял их головы, и нельзя было различить, кто они такие. В самом углу за столиком, образованным из положенной на кадку старой двери, сидел угрюмый, морщинистый и седой человек в чапане, ликом схожий с апостолом раскольничьего иконописья. [Чепан — старинная верхняя крестьянская одежда в виде долгополого кафтана.] Парунька припомнила, что, когда была девчонкой, заправлял он на селе комитетом бедноты и знали его «комиссаром».
Федор, упираясь головой в покрытую сажей матицу, рассевал слова нерешительно и робко, будто боясь кого разбудить.
— До волости пятнадцать верст и все лесом, одни волки да сосны кругом. Поп говорит проповеди о пришествии антихриста. Общество расправляется с сельчанами самосудом, как при Иване Грозном... Вчера Вавила рассказывал, будто к одной бабе забралась под череп лягушка, а святой угодник вырезал ее оттуда хлебным ножом, — и рассказчика слушают и верят! Подобным Вавилам хорошо рыбу в мутной воде ловить.
— Ловит, ловит, да утонет, — вставил нежданно Анныч.
— Где гарантия? — спросил Семен. — И когда это наступит? На западе пишут — мы спускаемся к старой жизни на тормозах... Что это значит? Несомненное возрождение Канашева во всеобщем масштабе! Разве про это мы думали, когда белых гнали? Как только я приехал с фронта, то сразу увидел: нельзя так жить. Беднота совсем разорена, да и неактивная какая-то. Избы развалились, по улицам, поросшим крапивой, бегают голые ребятишки. Хлеба нет, коров нет, нет сельхозорудий. А кулак, понимаете, ширится...
— Кулак организует коммуны, как Анныч бывало... Анныч, кулаки тебя опередили.
— Да, это факт, — сказал Анныч, — чтобы избежать репрессий, под вывеской коммун у нас целые монастыри прикрывались еще при комбеде. Даже помещики в имениях сколачивали компании своих родственников, приказчиков, лакеев и объявляли о переходе в коммуну. Сейчас это усилилось. И это как раз аргумент за то, чтобы беднота сама активизировалась. О чем я и говорю все время.
— Писать надо, освещать положенье, — продолжал Федор. — Прямо центру донесение с низов: так и так, мол, мы, низы, доносим, что заела глухомань, земля родит по старорежимным законам, газеты выписывают немногие, да и то на раскурку.
— Была встряска, повоевали, горели на работе, в комбедах политику вели, а пришло время такое — снова встал знак вопроса, — добавил Семен.
— Бегут люди из деревень, — продолжал Федор. — И выходит, что в городе работы нехватка, а у нас — людей. Обучать грамоте некому!
Он долго и горячо перечислял, кто отбыл в город и обжился там, кто думает убежать, говорил, что стремление это заражает девок.
«Гляди-ка! И все верно, и все правильно, думала Парунька, восхищаясь Федором, Семеном и Аннычем, — распознали они деревенское житье, вникли...»
— От темноты бежит каждый... — досадливо продолжал Федор. — Выходит, многие об учебе думают, но как только за книжку взялся — его багром в деревню не затащишь! Там ведь развлеченья, кино и «легкий» заработок, и культура — вот что тянет. А наше время, братцы, чернорабочее время, в истории запишется на все века... Направлять народ но-новому время приспело.
Он помолчал и заговорил громче:
— Что это за знак вопроса Семен перед нами поставил? Поставить — поставил, а ответ при себе удержал. Говори, Сема, дал ответ или нет?
— Не знаю, — сказал Семен. — Мне самому ничего не ясно. Когда рубил врага — знал, за что. Все было ясно. Приехал в деревню — ничего не ясно. Старое возрождается... За сердце хватает. А как разить врага — не знаю. Да и не распознаешь, где он.
— Правильно. Пробуешь узнать, а толку не получается. Ты Анныча слушай крепче. — Он обратился к старику: — О грамотности говорят, что темнота всему помеха и что от темноты мы лампу какую-то должны найти. Неделовая постановка вопроса!
— Совершенно верно, — ответил старик. — Жизнь изменяют с корня.
— Надо почву для деревенского человека найти на месте, — продолжал Федор.
— Зацепки нет, — откликнулся парень на печи. — Пишут, что ладят где-то совместное жилье мужики, а около нас этого не видно. И норовишь думать по-правильному, а в голове вертится: ничего этого нет, хвастают!
— Полей нет показательных, производство на месте стоит, — сказал другой, — нет кооперации. Из-под ног Канашева надо почву выбить... А сельсовет спит.
Анныч взял слово после этого парня:
— Нельзя социализм в деревне строить только председателю сельсовета да секретарю партячейки. Нужна масса. Нужна переделка мелкобуржуазной стихии. Мужик — не рабочий. Его переделать труднее. У него общественный инстинкт гораздо слабее, чем у рабочего класса. Огромная работа предстоит нам, товарищи.
У Паруньки захватило дыхание, так было верно все то, о чем здесь говорили! И в то же время так ново для нее. Значит, большевики обо всех думают и все знают.
— Земля в обществе поделена по едокам. И у кулаков, у бедняков и середняков ее одинаковый подушный надел. А на деле все иначе. Богач имеет инвентарь, а бедняк нет. Богач имеет скота больше, навозу больше. Богач сдает в аренду беднякам сельхозмашины — опять прибыль. Он укрывается от налогов, имеет тайную аренду: бедняки, что уходят в город, сдают ему свою землю. Тайное ростовщичество пышно процветает. Кулак ссужает по-старинке, берет вдвойне. Кулак скупает у сельчан подешевле хлеб осенью, когда нужно платить крестьянам налоги. Весной он продает его втридорога. Кулак растет, извивается, изворачивается, отдыхая от комбедовских гонений. — Анныч говорил гневно и сурово. — Хищный, хитрый, энергичный, он проникает и в кооперацию, и в сельсовет, и в земельные органы. Только деревенские активисты знают все потайные его ходы. Неземледельческие доходы от промыслов вовсе не учитываются работниками наркомфина. Кулаки скупают продукты местного кустарного промысла у бондарей, шорников, столяров: кадки, хомуты, дуги, колеса, шерстяные изделия, деготь — и перепродают, как свои, ускользая от фининспектора. Кулак, формально лишенный прав, захватывает под свое влияние сельчан. Он, оставаясь членом земельного общества, влияет на него, диктует свою волю. Борьба за середняка должна быть отчаянная...