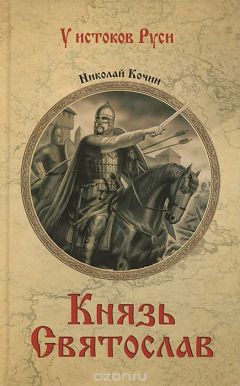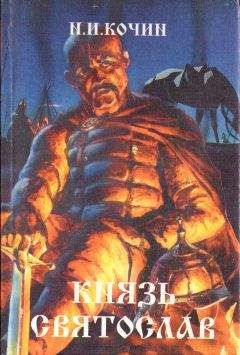Николай Кочин - Девки
— Так, так, сынок... поучи, поучи. Не давай бабе волю с этих пор. От своего корыта к чужому рыло воротит.
Наутро Парунька явилась в Канашеву лавку. За прилавком стояла Марья.
Промеж подруг начался возбужденный шепот:
— Федор велел сказать, если только ты захочешь к нему перейти, он завтра же с братом разделится. Будете жить вдвоем.
Марья выронила из рук гирьку от волнения.
— Будем жить вдвоем! — пролепетала Марья в сладком испуге. — Ведь это, Паруня, рай, а не жизнь... Но ведь не решусь я на это. Как же я к нему пойду беременная? — Она покраснела и оглянулась. — Ни один мужик с этим не помирится — чужого ребенка растить.
— Он такой, он будет растить. Он эти старые обычаи почитает ни за что.
— Может быть, на первых порах и будет себя принуждать, а потом и выкажет нутро. А тут и меня через малютку возненавидит и станет всю жизнь корить, что взял не девушку, да еще с приплодом. Нет-нет! — запротестовала она решительно. — Пусть не выдумывает сказки. Они в городе и то не удаются.
Замолчали. Марья отсчитывала сдачу.
— А ты как устроилась? — спросила тихо Марья. — Уж и подружки от тебя откачнулись.
Парунька сказала:
— Остригусь, кожаный картуз надену. В комсомолки я записалась.
— Ой, хлебнешь ты горя. Сколько комсомолок на селе себе жизнь загубили.
— В город уйду. Бобонин поможет устроиться. В трактир или в няньки.
— Надурил он над тобой, а ты обращаться к нему вздумала.
— Теперь у него руки уж коротки. Больше не обманет. А в деревне мне не жить. Как узнали, что я на собрания к Семену ходить стала, так соседки от меня, как от чумы, шарахаются... Ну, только теперь мне это не страшно, раз я с Федоровой компанией решилась связаться... Эх, Марья, решись и ты. Сразу духом вознесешься. Это только раз решиться, всем наперекор жить начать. Потом не страшно.
Глава одиннадцатая
Парунькина артель теперь снимала квартиру у вдовы Устиньи Квашенкиной, дом которой стоял в проулке, за соседскими дворами. Далеко за полночь там буянила гармонь, визжали девки и разносились выкрики парней.
Всплеск голосов, заливая улицу, тревожил сельчан.
— Загуторила шайтанова родня! — говорили сельчане. — Чтобы сгинуть этой дьяволице.
«Дьяволицей» обзывали Устю, румяноликую, задорную и здоровую вдову. Мужа Усти в недавнюю пору утопили эсеры под Самарой. Оставшись бездетно одинокой, повела она канительную жизнь, привечая молодежь.
Парни не стеснялись, приносили из отцовских сусеков в котомочках под полой рожь, сдавали Усте и, смеясь, обращались к девкам:
— Все из-за вас вот дань плати! Кабы вы как следует были. И мы не расходовались бы на вдов.
Девки потупляли глаза, будто не слышали. Сдували с подолов сор от пряжи и о чем нибудь заговаривали.
Парунька два раза была на этой квартире и решила больше не ходить.
Первый раз, когда она сидела в углу и перешептывалась с Наташкой, парни залезли на печь и, громко разговаривая о ней, затевали что-то нехорошее.
Один из них сказал:
— Вы девки несознательные. Никакой нивелировке не поддаетесь. Вон Парунька беда как сознательна, стала совсем общественной, одна на всю ячейку. Исайя ликуй, со всеми ими, девушка, финтуй!
Парни засмеялись.
Парунька ушла.
В другой раз ей нужно было взять у девок бутылку из-под керосина. Парни накрыли ее шубой на темном дворе, повалили на солому и изорвали сарафан, но Паруньке удалось закричать, вышли девки с лампой, и парни разбежались.
После того Парунька к подругам ходить боялась. Удумав, что в деревне ей не житье, начала она учиться азбуке у Семеновой жены. Летом собиралась уйти в город, на фабрику.
После того как на селе узнали, что Парунька учится грамоте, мальчишки кричали ей в спину:
— Учи-тель-ша!
А бабы разводили руками, показывали пальцами, приговаривая:
— Дура, дура и есть. На кой шут ей грамота?
Однажды Парунька с бумагой и карандашом в рукаве возвращалась от Семена домой. Была ночь. Луна искрилась на сугробах. Заиндевевшие ветлы стояли спокойно. Мороз резал щеки и колол ноздри.
У сеней своих Парунька увидела дрожащую женскую фигуру — она с ревом бросилась Паруньке на грудь.
— Что ты, Наташка! — вскричала Парунька. — Даже сердце остановилось, как испугала!
Наташка продолжала голосить, не объясняя, в чем дело.
— Ну, говори, что ты... дуреха!
— Тяжела, — провыла Наташка в рукав.
— Как тяжела? От кого?
— Не знай...
— Да как же не знать? Любезничала с кем-нибудь? Помнишь?
— Ни с кем.
— Так не бывает, дуреха, чтобы без парня вдруг это приключилось
— Не бывает? — простодушно повторила Наташка, напрягая память. Но ничего не вспомнила и только повторила: — Лопни мои глазыньки, ну ни капельки не виновата. Нешто я дура, чтобы без твердого уговора что позволить... Парень подойдет, я дрожу вся, а про себя думаю, что мама говорила: «Ну, Наташка, крепись девка, ты — как стеклянная посуда, кто разобьет тебя, век не починишь». Нет, Паруня, меня ни один парень не проведет... И как это приключилось?
— А на Марьиной свадьбе?
Наташка перестала всхлипывать и полушепотом протянула:
— На Марьиной?
— Да. С кем хороводилась?
Наташка разинула рот и заголосила, захлебываясь:
— Во хмелю была. Память отшибло... Ой-ой-ой! И верно, со мной заигрывали. Сперва Яшка Полушкин в сени водил. А тут будто из виду пропал. А в глазах Игнатий мельтешил. Или во сне это я видала?
— Вот уж этого я, Наташка, знать не могу. Ты сама своей душе хозяйка.
Батюшки! — вскрикнула Наташка. — Да ведь на другой день Яшка хвалился у ребят, что я ему платок подарила. Может быть, он и уговорил меня на грех, окаянный?
— А может быть, и не он? — строго сказала Парунька. — Человека втянуть в беду больно просто.
— Может, и не он, — легко согласилась Наташка. — Как теперича быть? Головушка кругом идет. Мама меня убьет. Да и от добрых людей зазор... Куда мне деваться такой?..
— Мочить глаза тут нечего, Наталюха. Дуры мы, вот нас и околпачивают. Тише — идут. Посоветоваться надо с девками, дело сурьезное.
Парунька замотала вокруг шеи концы своей шали, полузакрыв лицо, и прибавила шепотом:
— Пойдем к девкам.
За двором, в сугробе, очень высоком, под яблонью, девки, наскоро окутанные шалями и шубами, окружили Наташку. Говорила Дунька — девка опытная, прошедшая через все этапы девичьих бед.
— Не горюй, Наталюха, это со всякой может случиться. И я у многих бабок была и кой-что узнала. Бывает, что линь помогает. [Линь — пресноводная рыба.] Возьми линя, распластай его надвое, кости его вынь и того линя приложи к животу, все он из тебя и выгонит...
— Ай, Дуська, какая ты глупая. Где я его, этого линя, достану? У нас в реках он не водится... Может, ворожба какая есть или заговоры?..
— Ворожба и заговоры в этом деле не помогают. У меня примеры есть.
Она стала рассказывать случаи из жизни знакомых вдов и девок, когда за ворожбу бабкам было заплачено дорого и все без толку.
— Говорят, зверевские девки чернила глотают, — сказала одна подруга.
— А я слышала — щелок пьют... Пей, Наташка, попробуй. Рвать тебя будет, а ты пей.
— А я слышала, помогает, ежели в вине куриный помет растворить.
Подруги привели примеры: пили щелок и чернила, это не спасло. Начали упрекать Дуську, которая хвалилась познаниями в покрытиях тайного греха, а помочь Наташке не могла.
Наташка, уткнув подбородок в рукав, стояла в тесном кругу.
Ежились от холода, топали ногами, галдели, затем все разом смолкли.
— Может, к доктору? — сказал кто-то.
— Доктор — живодер, — возразила Дунька. — Ходила Любаха, что получилось? Десять пудов отдала, а уж измучилась, не приведи господи. У них одна замашка — резать...
— Ну как же, девахи? — спросила Парунька. — Выручайте подругу из беды...
— Я знаю средство от всяких вередов, — сказала Улыба. — Кто хочет любой веред избыть — воробьиное мясо помогает... [Веред — нарыв с нагноением, чирей.] Особенно воробьиное яйцо... Всякий веред как рукой снимает...
— Тошно мне, — произнесла в ответ на это Наташка. — Где же зимой взять воробьиное яйцо?
Все замолчали.
— Ну тогда, Наташка, пробуй все подряд: чернила, щелок... воробья... Насори на дорогу проса, воробьи налетят, и бей их палкой...
По селу мутной волной разливался слух: в Парунькиной артели девки одна за другой «гуляют».
Богомольные мужики и бабы, проходя мимо девичьей квартиры, отворачивались в сторону. Устинью Квашенкину молва обозвала нехорошим словом. А тем девкам, которые были членами этой артели, дома, по утрам и ночью, когда возвращались они, родители напевали:
— Помни, дочка, что случится... голову оторвем и в овраг бросим.
Парни приходили в артель, кололи Наташку обидными намеками.
Бабы на колодце вздыхали, перешептывались громко, не торопясь, вешали ведра на коромысла и добродетельно заключали: