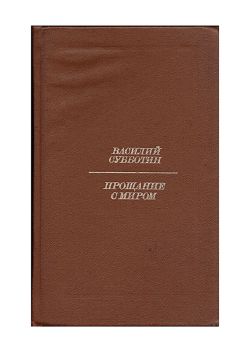Василий Коньяков - Далекие ветры
А Пронек уже поднимал меня. Я чувствовал его выдавшиеся колени и напряженный живот. Сейчас он будет падать, наваливая на себя, а я…
Я был приподнят, почти висел на его руке, туго стянутый брюками. Мне уже не хватало воздуха. Подступила холодная обреченность.
О, я помнил этот его рычаг! Взорвавшись, поймал миг, точку его броска.
— Х-х-о, — грузным рывком осадил себя.
И… будто распустили на мне шнурки, и я расползся весь, так стало легко… о-оп! Ноги Пронька рыбьим хвостом шлепнулись о землю.
Пронек вскочил и, косолапя, крутился на месте, еще боялся во всю силу стать на ноги.
— Ой-ей-ей! — ликовали вокруг. — Пронь, смотри: ямы! Ой… Ну нашел… Пятки-то целы?
Я почувствовал охватывающий холодок. Потрогал, крадучись, брюки и коснулся гладкой кожи ног.
Рассадил… Здорово или не здорово? Но разглядывать не хотел.
Пронек подошел ко мне, помялся с непонятной озабоченностью, спросил осторожно:
— Я у тебя там ничего не порвал? Втоки как будто?
— Нет, — сказал я, — показалось.
Ушел домой, снял брюки, долго рассматривал. Они лопнули ниже ширинки, разошлись до колен по свежему. Я их снял и не показал маме.
В восемнадцать лет Пронек уже был урослив, как двухгодовалый бычок, привязанный к столбу. Бык мог сорваться с веревки, раздирая металлическим кольцом нос. Кровь и боль были ему желанны — они распаляли его. Клубки мышц перекатывались под кожей, а он шел по улице и гудел. Женщины с ведрами прятались в ограду, а он минуту ковырял землю у ворот. Подводы сворачивали с дороги. И если он ничего на улице не поддевал, то удовлетворялся наведенным страхом. Он уже умел отвоевывать себе чужую кормушку.
С людьми Пронек не считался, потому что люди никогда к нему добрыми не были.
Неизвестно, куда бы привела его безнаказанная строптивость, если бы не одно обстоятельство.
Осенью его сестра косила хлеб на комбайне, стояла на мостике у штурвала. Вдруг ей стало плохо. Тракторист остановил трактор, помог спуститься на землю. Штурвальный побежал за подводой — отвезти в больницу, но она через час умерла, прямо на поле.
Таких похорон еще в деревне не было. Играл духовой оркестр. Протяжные ноющие звуки ужасали. Гроб поставили у могилы. Много было народу — вся деревня. Представитель из райкома был — Кагадеев.
— …четырнадцать лет проработала Наташа Кузеванова комбайнером. Все знала. И холод, и недоедание. Вынесла тяготы войны, но не ушла с комбайна. — У Кагадеева перехватывало голос. Говорил он хорошо, по-доброму. — …она жила среди нас. Была настоящим беспартийным большевиком. Всегда скромная, с бескорыстной, чистой душой…
И вдруг все поняли это, как прозрели. И Пронька заново увидели. И у него словно пружина отпустилась. Пронек женился. На Махотиной. У Махотиных семь девок. «Просто напасть».
Я помню, что под деревянную стену их сарая весной убегал ручей. Бежишь, бежишь за ним, следишь желтую соломинку, а он исчезает под нижним бревном в заглаженной вымоине, будто Махотины его украдали. Девки все в замызганных одинаковых платьях, пугливые, с большими глазами. «Напасть». Да разве такой карагод с рук сбудешь?..
Пронек посватался к предпоследней, Наде. Она пошла. Женщиной стала она статной. И вдруг все увидели, что Махотины красивы. И оказалось, что большие глаза — это не так уж и плохо. Светятся синим на все лицо. Родила она Проньку двоих детей — большеглазых, как сама. У последнего чуть широковат нос — Проньков. Он боек, и уже зовут его в деревне «Санек». Не трогает их глаза трахома. Да и у Пронька веки спокойны, и пробились на них новенькие черные ресницы.
Мы сидим с ним друг против друга. Пронек молчит, смотрит в пол. По прыгающим ресницам я замечаю, что он думает о чем-то энергично.
Я срезаю шпагат, стягиваю его с углов подрамников. Пронек приседает и помогает разворачивать бумагу.
В тугих ячейках перевернутого холста виден грунт.
— Я к тебе вчера приходил.
— Я знаю.
— Не дождался.
— В каком твой последний учится?
— В четвертом.
— А дочка?
— В шестом… Ты отстаешь.
— Жену я твою давно не видел. Девчонкой еще…
— Она про тебя спрашивала.
Я снимаю холсты. Они легко, с липким треском, отдираются от прокладок. Я ставлю один на пол у стула.
Пронек оживляется в нетерпенье, затихает и наклоняется к холсту лицом. На лицо ложится ровным отсветом теплый рефлекс. На полу от картины радужное сияние.
…Выхватило солнце кусок ограды, мальчишку в телогрейке с ведром в руке. Телогрейка до колен. Рукава подвернуты. Ведро еще влажно. Перевернутый лоток рядом, намазанный коричневым месивом. Под тоненьким слоем ледка слой аквариумной зелени и сосулечная бахрома. Лоток — давнишняя мальчишечья радость. Толстая доска с метр. Вдалбливали в нее три столбика — один спереди, два сзади, и сверху на них прибивали тоненькую дощечку под уклоном. Чтобы утяжелить основание, мазали его коровьими шматками, еще теплыми. Чем толще, тем лучше, чтобы не перевернулся. Обливали водой. Он как Ванька-встанька: неповоротлив, глыбисто скользок. Толкая перед собой, разбегались по дороге, почти влекомые этим ледяным утюгом, падали на дощечку. И прыгала дорога под животом…
На перевернутом лотке оплывает густая масса, схватывается зеленым льдом. Солнцу радостно на нем. Лед сквозит, как темное бутылочное стекло. Солнце в глазах мальчишки. Мальчишке весело. Он сделал… Сам… Облил только что… Пусть подстынет чуть. А потом перевернуть… Ничего, что руки красные, как лапы у гуся. Это же утро! Мороз. Зато солнце теплое, а у него еще день. Понятно?
— У тебя хорошо лед получался, — сказал я Проньку.
— Я руками мазал.
— Зато у тебя стойки шатались.
— Долбить нечем было. Я гвоздь расплющивал.
Пронек, так же не отрываясь, смотрел на картину.
— Консервные банки к передней стойке прибивали — бересту жечь. Ночью с лотком бежишь, а пламя гудит, искры об пимы бьются. По всей дороге огни.
— Председатель банки посрывал…
— Сейчас пацаны сами лыжи не делают. Покупают все. Я своему уже вторую пару привез.
Пронек не моргает, и мне хочется смотреть на его лицо, показать ему все. Я ставлю перед ним полотна, наваливаю на стены, на ножки стола. Последним закрываю мальчика с ведром.
И лицо Пронька погружается в сиреневый холод. Глаза растерялись:
— А это что?
— Нравится?
— Не знаю. Плывет в глазах все. Мельтешит, как снег ночью. И не пойму. И жутко.
— Это последнее.
— Как будто баловался.
Проньку не хочется разговаривать, и он долго молчит.
— Надо же… Что из тебя получилось. А ведь ты со всеми вместе рос. Вишь как светится… Это же все в тебе так… Мы всегда с тобой дрались почему-то, — говорит Пронек.
— Я тоже злой был…
— Тебе весело жить, наверно?
— Давай выпьем, — говорю я. — Ты посиди. Я в магазин схожу. И выпьем…
— Нет. Я у тебя уже пил. Мать беспокоить. Опять обидится. Пойдем ко мне, а? У меня все бывают, а ты нет. Пойдем. Жена обрадуется. Она тебя помнит и не видела.
Пронек загорался. Неожиданность возможности взбудоражила.
— Увидишь, как я живу. Телевизор посмотришь…
И вдруг я понимаю его откровенную радость, его распахнутую простоту.
Всю жизнь Пронек доказывал, что он не хуже других, а жизнь не признавала его полноценности и ущемляла гордость. Сейчас он имеет все: дом, телевизор, умную красивую жену. Имеет… Поднимался он к этому вместе со всеми, и люди не заметили, что он почитаем. Сознание людей примирилось и приняло это как должное. Люди разъехались. Приехали новые и принимают его таким, каков он есть. Они не знают эволюции его жизни. Они равнодушны к нему. А я то больное и тоненькое звено, которым связан он со своим детством, со своей деревней, с ее глубинными истоками. Ему хочется видеть мои глаза, услышать несколько слов, чтобы утвердиться в сознании, что теперь он человек. Без меня ему похвалиться некому. Он ждал красивого чувства — торжества.
И еще я знаю, что здешние люди принимают меня за человека, который что-то знает, умеет лучше их. Я посланец в другой мир, по мне они хотят проверить себя. Я ценен тем, что не умеют они. Они предполагают во мне больше, чем я вижу в себе сам.
— Пойдем, — говорю я Проньку, — мне хочется здорово с тобой напиться.
11 декабря.
— Теть Шур, а Дмитрия Алексеича нет?
— В кочегарке он. Говорит, его Андрей Уфимцев на картину рисует.
— А Андрей что, здешний?
— Наш. Деревенский.
— А вы видели? Хорошо он рисует?
— По-всякому. Если близко — и не поймешь. Краски много наляпано. А отойдешь — соберется все, и будто лицо получается. Он ведь учился много. Далеко где-то.
Тетя Шура оттянула нитку в сторону, и шерстяной клубок шевельнулся в ее подоле. Она опустила вязанье на колени.