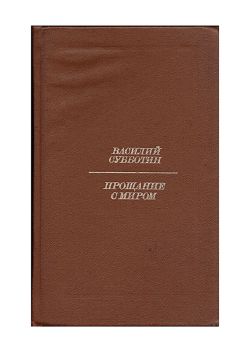Василий Коньяков - Далекие ветры
— Ты его разве не заметила? Видный такой. Недавно приехал. Не женат еще, а ему уж, наверно, тридцать скоро. И что?.. — Она будто себе ответила. — Учился, учился. Приехал и с мужиками солому возит. А сейчас с дедом моим в кочегарке работает. Председатель ему посмеялся: «Мы тебя рациональней используем, на другой работе. А эта что, стариковская». — «Меня, — говорит, — устраивает». Ему время нужно. Он ночные смены берет. Ночь продежурит — два дня дома. Трое их там. В котле воду греют для машин. Да ты присядь. Деда не скоро дождешься. Он только ушел.
— Я туда схожу.
— А знаешь, где кочегарка-то?
— Найду.
Гараж за огородами. Сразу от ворот дорожка к нему протоптана по сугробу через плетень.
Ступени в кочегарку обкатаны подошвами. В угольной пыли. Дверь глуха, придавливается прибитым куском автопокрышки. Я вошла — она подтолкнула в спину. Рыжий старик поднял на меня глаза и медленно пересел на истесанное бревно — освободил табуретку.
Дмитрий Алексеич бросал в топку уголь. По раскаленному жару в печи, поверху, не гася, легким дуновением пробегала тень. Из-под черных грудок угля вырывался синенький дым и вспыхивал. На земле у дверцы алел шлак, и пахло гаснущим жаром.
Рыжий старик лохмат, с тоненькими руками. Острые его колени тянули брюки из валенок. Рыжая борода коротка и густа, а на голове волосы длинные, и цвет их уже не так рыж, как бы потерял силу. Глаза щурятся хитро — видно, еще живут разговором, что был до меня.
Андрей вытирал тряпицей кисти. Воротник его рубашки расстегнут. Завернутый рукав спал с локтя. «Зачем-то в белой рубашке здесь, в черной кочегарке. Напускаешь на себя, местный Ван-Гог».
Я еще не доходила до его сознания. Лицо у него было далекое, медленно возвращалось.
— Садись, — сказал рыжий дед. — В ногах правды нет.
Дед — плотник колхозный. Это он мне березовые стулья сделал.
Дмитрий Алексеич откинул лопату в угол и сел на телогрейку, свисающую с ящика.
— Все? Отмучил… — сказал он и поводил головой. — За четыре дня жилы вытянул — шеей не шевельну.
Андрей засмеялся:
— Я говорил — свободней сидите. — Наклонился, опустил кисти в этюдник и замолчал, раздумывая.
Плотник смотрел на него, моргал. У него колечко стружки в бороде. Андрей выяснял для себя что-то, не соглашаясь. Он даже встал.
— Значит, в колхозе мастеров не было? — спросил Андрей. — А я колхозные дуги помню. Одна тяжелая была — я ее поднять не мог. Из какого-то литого дерева, голубая с золотым тиснением. У нее один конец крошился, а краску время не тронуло. Другая — облезлая, по овальному полю цветы нарезаны. Глубокие, отшлифованные ветром. Сколько их, разбитых, в завозне лежало? Любую можно в музей предложить. Кто-то их делал? Значит, и мастера были и мастерские?
— Помнить — помнишь, знать — не знаешь. Это все в колхоз снесли. Готовое… А в колхозе…
Плотник посмотрел на Дмитрия Алексеича.
— В колхозе Иван Липатыч дуги делал. Уйдет весной в лес, нарубит лесины березовые, облысит и начнет гнуть. На сгибе верхние жилки лопнут, он их топором зачистит. Вот тебе и красота вся. Дуги… Дуг тех нету, которые в музей нести надо было.
Старик навалился локтями на расставленные колени, руки сложил палец к пальцу, опустил тяжело. Они у него сухие, как старый корень на ветру. Я подумала: «Мог же он ими березовые стулья сделать. Так бережно».
Я села на перевернутый ящик.
— Ты говоришь, деревню начали строить. Архитектура новая… Не новая, а никакая… Вот я тебе расскажу: когда деревню сломали… А она была. — Он нашел глазами Дмитрия Алексеича. — Войдешь в деревню с солнца. На пригорке за колодцем стоял дом Петра Лексеича. Это где сейчас баня Макосова. Нет… ты не помнишь… Тебя еще, поди, не было, — сказал он Андрею. — Дом крестовый под тесом. Лес крупный, черный весь, а как солнце на него падет, окна так и раскроются в ставнях. Наличники нарядные, будто конец рушника свешен: легкий, прореженный. А поверху кругом резьба деревянная. Дерево выцвело, ссохлось, и над тенью как серебряная вышивка. И от этой резьбы сквозной на бревнах узоры солнечные. Идешь по дороге, и вечер не вечер, а праздник будто навстречу.
Вошел. На углу за огородом дом Портнягина с забором низким. Тот деревянной резьбой в три яруса подбит был. Скворечники по углам. Веселый дом. А дом Новоселова уже на краю деревни… Слепой, за воротами тесовыми прятался. Дерево на воротах крепкое, а будто ржавое на пазах. За него солнце садилось, и на улицу тень падала, холодом встречала. Проходишь мимо, вот уж и чувствуешь, что к реке спускаешься. Да… Деревня душу имела…
Взгляд Андрея сходит на нет, как угасающий волосок электролампочки. Он, наверно, ничего не слышит.
— Потом дома пустыми стояли, без окон. А уж потом сообща при колхозе их разрушили и клуб построили, и контору… А вот наличники не поберегли, бросили. Они и осыпались все. Двенадцать домов крепких было — сломали. Школу сделали, амбары на колхозном дворе… Сделать сделали, а красоту растеряли. Как будто сразу не нужна стала. Вот тебе и зодчество твое.
Старик говорил монотонно, с тихой апатией.
— А сейчас… Не скажу… Хорошие дома строят. Богатые. В три комнаты, С верандой. И шифер белый — в березках далеко виден. А на одно лицо. И люди такие стали, на одно лицо… Что делают… Один поставил дом. Придумал… Ничего! И все следом — не отстают. И пошли по всей улице как один… Выдумывать люди разучились, — в нем проснулся накал неодобрения, и он сказал громче: — Все готовое берут. И дома… И в дом. Магазинное… А раньше люди сами старались строить…
Дмитрий Алексеич шевельнулся на телогрейке, втянул воздух через желтый зуб, протестующе поморщился.
— Это дома сибиряков были, — сказал он недовольно в землю, — кто из России приехал, их деревня на задах вон стоит — пластами крытая. Не до выдумок было. Мыкались.
— Ну мыкались… Мы ж не про то, а что люди выдумку потеряли. Вон Андрей что говорит… «Деревня грамотнее стала. К другой культуре пришла». Ну что… — он охотно согласился, вздохнул с тихой издевкой. — Молодежь много учится… Десять годов. Учится, чтобы убежать. А кто остался, так в его учебе толку нету. Пустая она для жизни. Ничего не тянет. Раньше меньше учились, а делать умели. Теперь это умение старикам ни к чему, попрятали все свое. А молодежь… Много знает, да не умеет. А то не хочет… Ищет готовое. Одежду готовую. Кино готовую. Жизнь готовую. Где бы им ее сделали, а они ее взяли. Вот и ездят, ищут. Из деревни бегут. А радио их уговаривает: «Езжайте! Молодцы, что одних стариков в деревне побросали».
У Андрея такая добродетельная сосредоточенность. Он что, согласен?
— Любопытно, — удивилась я. — У людей что же? Талант исчез?
— Не исчез… Только он живет, когда нужен.
— Сейчас не нужен? Вы так красиво о своей деревне говорили. Почему же тогда людям красота была нужна, а сейчас эта потребность в красоте погасла? Люди грамотнее стали… Значит, они больше знают, им больше и надо? Как по-вашему?
— Надо больше. Я же и говорю. Получить готовое. Сядут вечером у телевизоров — вот тебе и будни и праздники.
«Ведь и я так думала».
— Что же? Значит, в деревне праздников нет? — спросила я, вдруг осознавая, что спрашиваю о том же, что сама утверждала. Помнит или нет Андрей тот разговор, что был у нас, когда мы возвращались из клуба?
— Праздников? В два раза больше. И советских… и старинных.
— Праздники-то разные… — сказал Андрей и сдержанно заулыбался.
— Одинаковые… Сравнялись. И на советский пьют, и на старинный.
— Одинаково?
— Я же говорю… Раньше каждый сам выдумывал. И праздники тоже. Кто как поинтересней. Масленица если… Ночью вся деревня на улицу выйдет. Бабы снаряду наденут — кто кого лучше придумал, чтоб показать, сани большие на гору притащат и… что тут делается… И стар и мал… А днем бега устроят. Чей конь возьмет. Опять вся деревня смотрит. А раз смотрит, значит, и дугу и коня снарядить надо.
На паску яйцами крашеными бьются. Христосуются. И опять же разговору — у кого краска ярче да чьи рушники лучше на божницах. Все выдумывали…
Сейчас завклуб за всех один праздники выдумывает. Ему за это деньги платят. А он только для девок на баяне пилит. А все… Подошел май… В клубе посидят на торжественной части и домой — водку пить. В октябрьский обратно торжественное в клубе. На скамейках посидели, учителя про революцию послушали. А он уж про это в май рассказывал. Пошли домой и снова… Два дня пьяные. Самогон гнать сейчас есть из чего. Вот тебе — праздники. И советские, и старинные. Ото всех голова болит. Рассолом лечим.
Андрей рассмеялся, любовно рассматривая старика. Глаза его радовались, как у ребенка.
Дмитрий Алексеич наклонился к кисету, полуоткрыв беззубый рот, — он, должно быть, так улыбался. Воздух сушил его крепкий зуб.