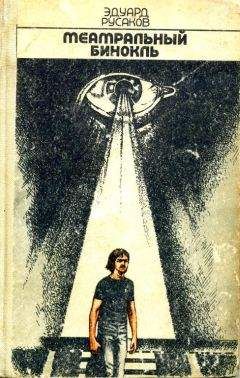Юрий Рытхэу - Белые снега
А пурга словно взбесилась: летел снег, вой ветра рвал уши, отбивал дыхание, пригибал человека к земле.
Пэнкок и Тэгрын проводили русских до домика и скрылись в белой, светящейся мгле.
11Мальчишка бежал по сугробам и возбужденно сообщал каждому встречному:
— Приближается Новый год!
Рычын остановил его:
— С какой стороны?
Унненер призадумался. И вправду, почему учитель не сказал, с какой стороны придет Новый год. Можно было бы его подстеречь и увидеть таинственное возникновение нового времени.
Эту же новость принес в ярангу Омрылькота Локэ.
— Пешком или на собаках? — тревожно спросила мать.
— Коо, — ответил Локэ. — Не сказал нам про это учитель.
К вечеру, когда охотники стали возвращаться в Улак, эта новость приняла несколько иной вид.
Сорокин откапывал школьные окна лопатой, сделанной из китовой кости.
Сумерки давно упали на селение. Холодный воздух был недвижим и плотно оберегал все окружающее от резких звуков. В небе светились звезды, а над темной плитой Инчоунского мыса разгоралось полярное сияние.
В каждой яранге в чоттагине зажгли яркие плошки, и отсвет их падал в раскрытую дверь на снег, светя тем, кто возвращался после долгой охоты на дрейфующем льду Берингова пролива.
Несколько человек, волоча за собой убитых нерп, прошли мимо Сорокина. Учитель приветствовал каждого громким возгласом:
— Амын етти! — и осведомлялся: — Амто? — Это означало: есть ли удача, каково в море…
Охотники коротко отвечали Сорокину, зная, что более обстоятельный разговор невозможен: учитель только еще начинает говорить по-чукотски, и обсуждать с ним положение льда в проливе, наличие зверя в полыньях и разводьях бесполезно. Но даже эти короткие оклики радовали Сорокина: он чувствовал себя постепенно входящим в мир этих людей.
Уже несколько месяцев работала в Улаке школа. Сорокин долго ломал голову над тем, как учить ребятишек. Ведь на чукотском языке не было не только ни одной книги, но даже самой письменности. Как всегда, на помощь пришел находчивый милиционер Драбкин. Он принес Сорокину обращение Камчатского губревкома, прочитал его громко, с выражением и сказал: «Если перевести это обращение на чукотский язык, можно убить двух зайцев». — «Каких?» — заинтересовался Сорокин. «А вот каких, — с присущей ему обстоятельностью ответил Драбкин. — Во-первых, этот перевод будет служить тебе учебником, как бы первым букварем. Во-вторых, мы получим документ Советской республики на местном языке, что тоже является немаловажным… Представляешь — первый революционный документ на чукотском языке!»
Перевод сравнительно небольшого текста потребовал, однако, не одну неделю. Иногда и Тэгрын, активно помогавший в этом деле, и Сорокин, и Драбкин, и привлеченный к работе над чукотским текстом обращения Камчатского губревкома Пэнкок вставали в тупик перед каким-нибудь словом или целым выражением.
Но теперь — все трудности позади. Обращение было многократно переписано, и каждый ученик Улакской школы имел его перевод как учебник родного письменного языка.
Несколько дней назад Сорокин с Драбкиным переселились в школьный домик, превратив свое первоначальное жилище в постоянно действующую лавку.
Драбкин стал заправским торговцем, но это его не радовало, и он все чаще заговаривал о том, что пора ему отправляться в объезд района. Часто к Драбкину приходила Наргинау, предлагала помощь, и милиционер, по всему видать, не прочь был принять ее услуги.
Из-под тени, нависшей над торосами от высокой скалы, показалась еще одна фигурка, согнувшаяся под упряжью. Человек шел медленно, оставляя за собой след, окрашенный кровью.
— Амын етти! — приветствовал его Сорокин, втыкая лопату в сугроб.
— Ии, — ответил с улыбкой Тэгрын.
— Амто?
— Гачымъейгым[19],— ответил охотник. — Пошли со мной, угощу свежей нерпятиной.
Тэгрын добыл двух нерп. Он был счастлив удачей. Волосы его заиндевели, усы покрылись изморозью. Но Тэгрын, казалось, совсем не чувствовал мороза.
У входа в ярангу светилось пятно от жировой плошки. Жена Тэгрына держала в руках ковшик с водой.
Тэгрын молча подошел, скинул упряжку, и Олына облила головы тюленей. Остаток воды она подала мужу. Тэгрын с наслаждением выпил ледяную воду. Оставшиеся на донышке капли он резким взмахом выплеснул в сторону моря.
Олына втащила туши через порог в чоттагин, потом в полог, оттаивать на отдельном куске моржовой кожи.
Пока муж раздевался и тщательно выбивал снег из шерсти кухлянки, торбазов, Олына приготовила угощение — «чаеквын», «закуску перед чаепитием». Она состояла из толченого с нерпичьим жиром мороженого мяса и тонко нарезанного копальхена. Копальхен был свежий, необыкновенно вкусный: слой, жира в меру чередовался со слоем замороженного мяса, затем шла моржовая кожа, ставшая от долгого лежания мягкой. Вдобавок была подана зеленая приправа — чипъэт, заквашенные листья, сдобренные топленым жиром и тоже замороженные. Вся эта еда, от которой с непривычки ныли зубы, предшествовала долгому чаепитию. Пока пили чай и ждали свежего вареного мяса — вели серьезный разговор, который невозможен при настоящей еде.
Пришел Пэнкок, за ним — Кмоль. После положенных слов о погоде, об охоте, Кмоль, откинув в сторону все остальное, спросил напрямик:
— Откуда придет Новый год?
— Да, откуда? — поддержал его Пэнкок. — Все в селении только об этом и говорят. Одни думают, что приедет особый человек и привезет его, этот год. Я спрашивал Млеткына. Шаман показал мне железное стучащее сердце и сказал, что оно отмеряет протяжение жизни. Тангитаны любят измерять все. Научились и это делать. День они меряют не только на утро, полдень и вечер, но и на мелкие кусочки. Млеткын сказал, это для того, чтобы всем хватило.
Сорокин пока молчал.
— А раньше при царе были несправедливости в распределении времени? — спросил Тэгрын.
— Товарищи, — Сорокин был в растерянности и поначалу не знал толком, как ответить. — Новый год — это день, с которого все люди земли начинают отсчитывать другое время. Кончился один год, как кончается зима и начинается весна.
— А когда он придет, этот день, и откуда? — перебил его Пэнкок. — Может простой человек его увидеть?
— Может, — заверил Сорокин. — Наступит на первый взгляд обыкновенный день, так же займется заря, и если будет хорошая погода, каждый из вас сможет увидеть наступление первого дня нового года.
— Но знак будет? — спросил Тэгрын.
— Какой знак?
— О том, что это совсем новый день?
— Нет, знака никакого не будет.
— Ничего не понимаю. Как же тогда тангитаны ухитряются уловить тот день? — высказал сомнение Кмоль.
— Есть большие ученые, которые знают движение небесных тел, — снова принялся объяснять Сорокин. — Расположение звезд указывает им, что пришло начало нового года, кончился старый.
— А вы как узнали? Тоже по звездам? — спросил Пэнкок.
— Нет. Мы это знали заранее. Считали дни. С начала нового года до следующего проходит триста шестьдесят пять дней, — ответил Сорокин, откинув пока для простоты високосные годы. — Через два дня закончатся очередные триста шестьдесят пять дней и надо начинать отсчет снова.
— Как интересно! — восторженно произнес Пэнкок. — Выходит, и сам я, если правильно считать, смогу подстеречь новый год?
— Конечно! — ответил Сорокин.
— Это сколько дней будет по-нашему? — обратился Кмоль к Тэгрыну.
— Три раза по пять двадцаток, три двадцатки и пять…
— Три раза по пять двадцаток, три двадцатки и пять, — повторил Кмоль. — Однако можно запутаться в таком большом числе.
Прислушиваясь к необычному разговору, Олына разделывала нерп, ставила варить свежее мясо.
Сорокин проследил за тем, как женщина ловко, ни разу не задев кость, расчленила нерпу. Целиком сняла кожу вместе с жировым слоем, разделила тушу, обработала голову, аккуратно вырезала глаза. Возле нее крутились ребятишки. Олына давала им то один лакомый кусочек, то другой. Окровавленные личики сияли от удовольствия. С наслаждением высосали они содержимое нерпичьих глаз. Потом оба — и мальчишка, и девочка — принялись, громко чавкая, жевать глазные оболочки.
— Есть такие бумаги, на которых обозначены дни, — продолжал рассказывать Сорокин, думая про себя о том, что в пологе при всей очевидности значительного разговора о летосчислении и календаре, царит самая что ни на есть дикость. И это на десятом году Советской власти! Сколько же лет должно пройти, сколько раз должны смениться двадцатки дней, прежде чем истинное современное время придет к этому народу, так долго ютившемуся на обочине мировой истории… — Такая бумага называется календарь.
— А эта бумага у вас есть? — спросил Пэнкок.