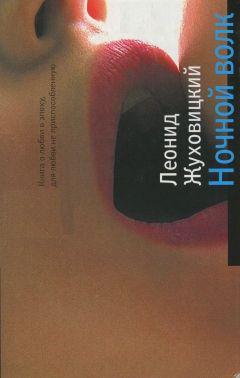Леонид Жуховицкий - Остановиться, оглянуться…
— А зачем тянула?
— Меня ж послали за очерком.
— А если бы послали за фельетоном?
Она посмотрела на меня и сказала с вызовом:
— Как миленького бы умыла.
— Выгодный принцип…
Она спросила:
— А что это такое?
— Молодец, — похвалил я.
Ничего не скажешь, в словах она ориентировалась быстро…
— Я журналистка, — сказала она и тут же поправилась: — Хочу быть журналисткой.
— Политикой не интересуешься?
— Не.
— И газет не читаешь?
— Только твои фельетоны, — съязвила она. — Хочу дожить до пенсии.
Я кивнул:
— Валяй живи.
На столе лежала подшивка. Я полистал ее, просматривая последние номера. Танька тронула меня за локоть. Я обернулся. Она довольно робко глядела на меня снизу вверх.
— Гошка, а как по стилю? — обеспокоенно спросила она.
Я пожал плечами:
— Вроде нормально. Нынче и дурак стилист… Впрочем, чувствуется, что врешь: соплей больше, чем фактов.
Она немного обиделась:
— Я читала черновик Вадиму Сергееву, он сказал — убеждает.
Я взял у нее очерк и стал разбирать подробно, фразу за фразой. На третьем абзаце она вырвала у меня листки и пошла к двери.
Я спросил:
— Надо думать, в другой раз ты будешь советоваться только с Вадимом Сергеевым?
Она зло посмотрела на меня:
— Ты что, рехнулся? Я же сказала тебе, что хочу стать журналисткой.
Уже в дверях она буркнула:
— Перепишу и принесу. Ладно?
Настроение у меня немного улучшилось. Подлая вещь человеческий характер: стоит испортить настроение другому…
Я сел за оставленную Танькой машинку и начал печатать в надежде, что дальше пойдет само. Естественно, у меня ничего не получилось. Парень был мне слишком дорог, а газетчику, как и хирургу, лучше не касаться близких…
Я проболтался без толку еще два дня и в конце концов сдался: написал на трех страничках злой и веселый фельетон обо всей этой кирбитской истории. Я обкатывал его до тех пор, пока фельетон не получился безукоризненным— маленький шедевр. Проблема была мелка (можно ли оскорблять ни в чем не повинного человека?), решение ее очевидно (ни в коем случае нельзя!), зато все слова стояли на месте, а фразы цеплялись друг за друга, как обезьяны хвостами. Когда не можешь написать по–настоящему, только и остается, что создать маленький шедевр…
Я и дальше пошел по пути наименьшего сопротивления: показал фельетон Генке. Он, естественно, пришел в восторг: нельзя было придраться ни к единой запятой.
Я понес фельетон в секретариат. В конце концов, свое конкретное дело он сделает — и на том спасибо…
В коридоре меня догнал Генка и сказал, что меня требует к телефону интимный женский голос. В интонациях он разбирался слабо — звонила Рита.
— Гоша? — спросила она.
Я сказал:
— Привет, старуха. Что нового на свете?
— Можно мне с тобой поговорить?
— Когда и где?
— Когда ты свободен, — сказала она.
— В шесть тебе удобно?
— Да.
— На углу у «Метрополя»? Она не поняла иронии:
— Хорошо.
Она пришла немного раньше и стояла точно на углу в своем хоть и легком, но строгом костюме со строгой черной сумочкой на правой руке. Пожалуй, она была красива, во всяком случае, ничего. Но мне трудно было представить человека, у которого она вызывала бы какие–нибудь эмоции, кроме самых пристойных… Впрочем, Юрка, когда женился на ней, наверное, думал иначе…
— Куда пойдем? — спросил я.
— Куда хочешь. Можем посидеть в скверике.
Я возмутился:
— Не хватало только, чтобы жена моего лучшего друга в обеденное время сидела в скверике!
— Я не голодна, — ответила она. — Но если ты хочешь есть, давай зайдем в какую–нибудь столовую.
— Не хватало только, чтобы жена моего лучшего друга обедала в каких–нибудь столовках!
Она догадалась:
— Иронизируешь?.. Гоша, мне правда очень нужно с тобой поговорить.
Я посмотрел на нее внимательней. Лицо у нее было сразу и решительное и растерянное.
Мы пошли в ресторан Дома журналиста, и я взял себе шашлык, а ей пару пирожных и компот.
Она сказала:
— Я хочу поговорить с тобой о Юре.
— Что–нибудь случилось?
Она помедлила:
— Но этот разговор между нами?
— Конечно, — кивнул я.
— Мне кажется, — сказала она, — что у него есть другая женщина.
— У Юрки? — переспросил я. — С чего ты взяла?
— Когда ты был в Кирбите, он сказал, что уезжает на три дня в командировку. А одна знакомая видела его в Москве.
— Могла обознаться.
— Нет, он прошел в двух шагах от нее.
Я пожал плечами.
— Черт его знает, — сказал я. — А причем тут другая женщина?
Рита растерянно посмотрела на меня:
— А зачем еще ему меня обманывать?
— Мало ли что могло случиться… Он тебе сказал, куда едет?
— Нет. Сказал, что недалеко.
Я оживился:
— Вот видишь! Что значит «недалеко»? Какое–то спецзадание. Есть вещи, о которых он не имеет права говорить ни тебе, ни мне. Он мог пробыть эти три дня в лаборатории в центре Москвы.
— Но он же не в «почтовом ящике».
Я возразил:
— Ну и что? У них тоже наверняка есть закрытые темы.
Она с сомнением подняла глаза. Но, кажется, она начинала верить. Бог ты мой, сколько неверных мужей на планете спасает от разоблачения холодная война!
Рита спросила:
— А ты ничего за ним не замечал?
— Абсолютно.
— Впрочем, ты, если и знаешь, все равно не скажешь. У вас это называется мужской солидарностью.
— Что ты себе забиваешь голову всякой ерундой? Лучше ешь — я ем, а ты сидишь, как в гостях.
Она прикончила свои пирожные и компот с торопливостью работающей женщины, привыкшей есть на ходу. Мне стало ее жалко. Но что я мог сделать?
— Рита, — сказал я, — выкинь ты из головы эту чушь. Что он, стал плохо к тебе относиться?
— Да нет… Дома он, как всегда. Но ты же его знаешь — молчит и молчит.
Я расплатился. Мы пошли в маленький безлюдный зальчик и сели на диван в углу.
— Я не знаю, есть у него кто–нибудь или нет, — сказала Рита, — и я не хочу устраивать ему никаких скандалов. Но я же должна знать, как мне себя вести?
Она вдруг заплакала и сразу стала молоденькой и трогательной, как семнадцатилетняя девочка, которой впервые в жизни горько из–за любви.
— Ну, брось, — сказал я, — ну, что ты?
Я не удержался и по инерции задал традиционный вопрос:
— Ты его очень любишь?
— Не знаю, — сказала она сквозь слезы. — Не знаю, как это называется, но я ни к кому не относилась так, как к нему… Вообще, наверное, нам не надо было жениться. Ты знаешь, какими мы с ним были друзьями! Пять лет, с первого курса…
— Но он и сейчас к тебе очень хорошо относится, — возразил я.
Она печально покачала головой:
— Теперь стало как–то не так. Я не знаю, как это объяснить. — Она замялась. Но мне и не надо было ничего объяснять, все понятно. Понятно, и винить некого. Юрка не виноват. А она… она–то в чем виновата? Работала, заботилась о муже, растила дочку… Оба — люди и относились друг к другу по–человечески. Просто не вытянули счастливый билет…
Постепенно она успокоилась, вытерла слезы платочком и уже рассудительно проговорила:
— Гоша, ты пойми меня правильно: я вовсе не хочу отравлять ему жизнь. Но я же должна знать, как мне себя вести…
По лицо у нее по–прежнему было озабоченное и растерянное.
Мне не хотелось отпускать ее с таким настроением, и я потащил ее на выставку польской фотографии, а по дорого вел интеллектуальный разговор: рассказывал международные анекдоты последних трех лет. На выставке Рита терпеливо ходила по залам, добросовестно разглядывала фотографии голых девушек и даже говорила что–то о свете и композиции: она знала, что это входит в обязанности современной женщины. Но лицо ее не выражало ничего, кроме недоуменного вопроса: как они могли позировать в таком виде?
В буфете выставки я купил ей толстенную пористую шоколадку. Мы поделили ее по–братски. Рита немного повеселела, а когда мы вышли на улицу, к ней уже вернулась ее обычная уверенность. И сразу же рядом с ней стало тяжело.
Прощаясь, она сказала:
— Ты же знаешь — я вовсе не ханжа. Но ведь у нас ребенок…
Не дочка, не Леночка, а ребенок…
Я пошел домой. Был почти вечер, но все равно чертовски жарко, я даже удивился. Но потом глянул на большой перекидной календарь в витрине сберкассы и вспомнил, что удивляться нечему: еще два листка — и июль.
Траншею на нашей уличке уже заровняли, постелили новенький гладкий асфальт, и по нему со всем пылом нерастраченной юности носился взад–вперед мотоциклист — малый лет тридцати с мужественным лицом, словно вырубленным из дубового пня.
А сбоку, чуть отстав, изо всех своих собачьих сил поспевал за мотоциклом рыжий колченогий «боксер». Он скакал, высоко подбрасывая зад с обрубком хвоста, скакал неловко — казалось, вот–вот запутается в четырех своих лапах. Язык у него болтался, с брылей срывалась пена, глаза, покрасневшие от напряжения, всплывали к морщинистому лбу.