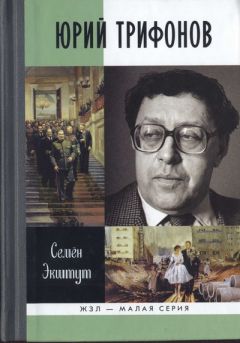Юрий Трифонов - Все московские повести (сборник)
Мигулин объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе… будет считаться изменником Революции. Если подчинится добровольно, гарантирую безопасность, иначе погибель его неизбежна…»
А вот из обвинительного акта:
«В этих своих воззваниях, которые он выпускает по пути следования, есть указание, что он хочет свергнуть коммунистическую партию. В одном воззвании говорится: я поднял бунт против советской власти, которая не нравится вам, подразумеваются красноармейцы… Он зовет в свои ряды дезертиров, которые являются главнейшим злом Советской России, они подорвали наше положение на Южном фронте… В пути следования Мигулина было несколько боев с нашими красноармейскими частями, по показаниям одних – 4, по другим сведениям – 5. Стало быть, в тот момент, когда обнаружилось, что советская власть не может допустить партизанских выступлений, Мигулин силой оружия прорывается на фронт… 23 августа поздно вечером Мигулину было известно, что если он выйдет на фронт, то будет объявлен вне закона… В результате стычек среди наших войск было много убитых и раненых, были потери и со стороны Мигулина. В этих затруднительных наших оперативных действиях Мигулин отдавал приказания рвать телефонные и телеграфные провода. Имеются сведения, что Мигулин в пути арестовал коммунистов и некоторых крестьян – правда, он затем отпускал их – за то, что они отказывались давать ему подводы, и даже грозил расстрелом. По пути был ограблен один завод, у заведующего была отобрана некоторая сумма денег. (Видишь, Асенька, эти факты почему-то тебе не запомнились. Да, наша человеческая память – еще более чудо потому, что умеет поразительным образом одно отсеивать, а другое сохранять!) При приближении к фронту, когда положение Мигулина стало довольно опасным, когда он почувствовал, что его игра проиграна, он начал колебаться, но все же вместо того, чтобы сдаться мирным путем, он пытался идти дальше… Мигулин арестовал двух коммунистов, Логачева и Харина, по подозрению в покушении на его жизнь. Но в деле нет материалов, устанавливающих наличность такого покушения. Коммунистов этих Мигулин объявляет заложниками и грозит расстрелять при первом выстреле со стороны советских войск. Арестованные коммунисты шли в течение нескольких дней с красноармейцами, и им в любой момент грозила опасность быть расстрелянными, и только паника, вызванная выстрелами с нашей стороны, дала им возможность бежать…»
А она пишет, будто арестованные находились в рядах корпуса и, когда Маслюк спросил, где они, Мигулин махнул рукою назад, как бы говоря: здесь. Бог ты мой, память – штука ненадежная. Нужны старенькие бумажки, истлевшие на сгибах документы, выцветшие чернила, бледный шрифт «ундервуда»… Но посылать все это ей нельзя .
Павел Евграфович сейчас же сел за ответ.
«Дорогая Ася!
Благодарю тебя за присланные содержательные воспоминания. В них я почерпнул очень много интересного, раскрывающего…» Тут он надолго задумался, какое применить выражение: «всю историю», или «весь ход», или же просто «события». Однако, призадумавшись покрепче, решил написать «некоторые подробности». Дальше написал «выступления Донского корпуса на фронт» и услышал выстрел где-то близко. Он не обратил внимания, ибо в расположении корпуса всегда постреливали. Дисциплина тут была не ахти. Следующую фразу только начал, как бабахнуло сразу два выстрела, и он подумал, что на трехлинейку не похоже, бьют вроде из охотничьего, что показалось странным: откуда охотничье? Какие-то тонкие, то ли женские, то ли детские, голоса кричали. Павел Евграфович отложил ручку и, как был, в сетчатой майке и в полосатых брюках от пижамы, вышел из комнаты и задней дверью через большое общее крыльцо спустился на двор.
На повороте дороги, ведущей от ворот в глубь участка, он увидел грузовик с крытым кузовом. Возле грузовика толпились несколько человек, женщины и ребятишки, и что-то кричали, вопили и даже плакали. Внучка Полины, великовозрастная Алена, бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая:
– Спасите! Они убивают!
– Кого? – изумился Павел Евграфович.
– Уже убили Гуслика! Теперь ищут Арапку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!
Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сараев, рядом с ним мелькал, кажется, Приходько – в соломенной шляпе, в чем-то белом, развевающемся, – за ними бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик:
– Толя! Айда Арапку стрелять!
Он с ужасом узнал голос внука. Возле заднего борта в кузове стоял знакомый парень – Митька совхозный, шельма, пьянчужка, он и теперь был, видно, хмелен, рожа красная, еле ворочал языком, что-то женщинам объяснял мыком, а те на него орали и махали руками. Застреленные собаки лежали в кузове. Мальчишки подпрыгивали, чтобы заглянуть через борт. Павел Евграфович поспешил, задыхаясь, к сараям, где человек с охотничьим ружьем тыркался из одной сараюшки в другую, ища Арапку. Какой-то мальчик плакал. Другой закричал радостно:
– Вон! Вон! Вон он!
Убийца разбрасывал груду досок.
– Что можно сделать? – говорил Приходько. – Приказ дачного треста… Это не от нас, товарищи, зависит…
– Прекратить! – крикнул что есть мочи Павел Евграфович.
Никто почему-то не услышал. Он опустился на что-то вроде ящика, деревянное, ноги не держали. В груди была боль. Он вдруг подумал, что сидит на чем-то деревянном и длинном, как гроб. Внезапно из-под досок выскочил, скуля, Арапка и бросился к Павлу Евграфовичу. Прыгнул к нему на колени и сунул нос ему под мышку. Павел Евграфович обнял пса, чувствуя, как тот дрожит. Павел Евграфович задыхался, и в груди была боль.
– Это мой пес… Это не бездомный… – сказал слабым голосом.
Люди что-то кричали. Женщина ругалась с Приходько. Он понимал, что Приходько хочет, чтобы Арапку убили, потому что Арапка пристает к его собачонке. Убивать только за то, что дворняга. Да он лучше всех. Они сами бешеные, эти пьянчуги, их самих застрелить. Ему хотелось все это крикнуть человеку с ружьем и Приходько, сказать Приходько, что он подлец. Он бывший юнкер. Он перекрасился. Его самого застрелить. Но не то что крикнуть, даже сказать не было сил, в груди была боль, он обнял пса и дрожал вместе с ним. Он чувствовал подступающую тошноту. Никто не отнимет у него пса, как бы ни кричали, как бы ни воняли водкой в лицо. Приходько злобно вертел глазом.
– Вы нарушаете параграф! Указание Моссовета!
Павел Евграфович собирал во рту слюну, чтобы плюнуть. Какой-то мальчик подбежал и сел рядом с Павлом Евграфовичем, обняв Арапку. Теперь обнимали пса вдвоем. Потом с другой стороны подошла девочка и положила руку на Арапкин затылок, торчавший из-под мышки. Вдруг он почувствовал, что пес перестал дрожать.
Кто-то хрипел в ухо:
– Найди червонец… Я ему дам, змею, а то не отстанет…
Это был Митька совхозный. Тот мальчишка, что сел с Павлом Евграфовичем рядом, нес Арапку на руках, уморился, выпустил, Арапка побежал рядом, прижимаясь к ногам. Павел Евграфович останавливался, когда давила боль. Дома искал деньги, рылся повсюду, по карманам, по ящикам, спросил у Валентины, но нашел только три рубля и копеек сорок мелочью.
Митька был недоволен, ворчал, но согласился.
– Ладно, давай! – Побежал, прыгая через насаждения, треща кустами, торопясь к грузовику, к новым собакам, новым трешницам.
Павел Евграфович ушел в дом и затворил за собой дверь. Ни с кем разговаривать не хотелось. По-прежнему болела грудь, но не оттого разговаривать не хотелось. Нет, не оттого. Все вместе – какая-то гадость. Арапку он спас. Но как спасти остальное? Например, того мальчика, который кричал: «Вон! Вон! Вон…»? Исобственного внука? Как теперь разговаривать с Приходько? Подумал, что при Гале всего этого быть не могло. Не могло быть таких душителей собак, таких любознательных мальчиков, такой жары. Жара нечеловеческая, нездешняя, жара того света. Все было другое при Гале.
* * *Сидел в кресле-качалке, вдруг говор – Верочка с Эрастычем. Где-то под окном, внизу, совсем близко. И разговаривают-то негромко, а ему, как назло, все слышно. Даже удивительно, до чего отчетливо и ясно. Верочка жаловалась: «Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, такой жалкий, чудной… Еле ходит…» Эрастыч: «Не бери в голову. (Что за глупость: не бери в голову. Научный работник, а выражается черт знает как.) Ведь не можешь заставить брата бросить пить? Не можешь вернуть старику здоровье? Значит, не бери в голову». Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслушивает, но подняться с качалки было непросто, требовались усилия, и он некоторое время колебался, затевать ли сложную операцию по подъему с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкою в пол, давая знать, что сидит рядом. Нет, не слышали, продолжали. Верочка все жалобней: «Но ведь мне его жалко, правда же. Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки…» – «И слава богу, есть занятие». – «Это не занятие, Коля. Это что-то…» – «Все старики немного “чайники”. Старость – вид шизофрении». И ушли.