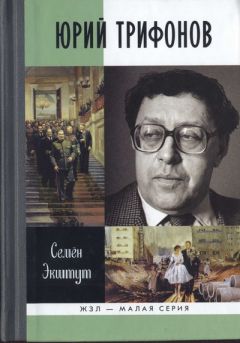Юрий Трифонов - Все московские повести (сборник)
Янсон спросил: верно ли, что собираетесь выступить на фронт без ведома командования? Сергей Кириллович твердым голосом объяснил положение. Помню такие фразы: “Вокруг меня атмосфера, в которой я задыхаюсь… Я согласен влиться с сотней преданных мне людей в родную дивизию”. Он имел в виду 23-ю дивизию, от командования которой был отстранен в марте. Там начдивом стал его друг Маликов. Вообще говорил сначала спокойно и рассудительно, даже на него непохоже. Янсон сказал, что приказывает от имени Реввоенсовета не отправлять ни одной части без разрешения.
Сергей Кириллович сказал: “Тогда уезжаю один. Жить здесь дольше не могу, меня жестоко оскорбляют!” Янсон потребовал, чтобы Сергей Кириллович приехал в Пензу. Штаб фронта был тогда в Пензе. Между прочим, помню, сказал: “Приезжайте, сообща обдумаем. Тут сейчас командующий фронтом и товарищ Данилов”. Но Сергей Кириллович прямо ответил, что боится за свою безопасность и без конвоя не поедет. Янсон убеждал, что бояться нечего, потом согласился на конвой. Сергей Кириллович потребовал 150 человек. Хорошо, берите 150 человек и приезжайте немедленно. Помню и последние слова Сергея Кирилловича, когда спокойствие изменило ему, он стоял бледный, пот стекал по лицу, был к тому же очень жаркий день, и кричал в трубку, а я стояла перед ним, он все время смотрел на меня, но меня не видел, кричал: “Прошу поставить в известность 23-ю дивизию о том, что вызываюсь в Пензу, чтоб она знала, если что случится! Я вам, товарищ Янсон, как человеку, которому верю, поручаю себя!”
Мне это показалось наивным. Но вообще я была в ужасе. Я чувствовала, что надвигается страшное. Он положил трубку аппарата и сказал: “Все!” Потом спросил, как он, по моему мнению, разговаривал. Я сказала, что очень хорошо и твердо. Он был доволен. Именно это хотел знать: достойно ли? Потом начались его муки, колебания, которые длились целые сутки. То решал выступать, то отменял решение. Кстати, на него подействовало вот что: Янсон сказал, что в Пензе Данилов. Хотя он с твоим дядей тоже ругался (а с кем не ругался?), но он его уважал, у меня это ощущение сохранилось, поэтому скрытно переживал, когда его перевели от нас. Он чувствовал, что без него станет хуже, так и вышло. Говорил, что был бы “рябой” в политотделе, его бы в партию приняли, а молодые злыдни вознамерились погубить. Звал он дядю почему-то “рябой”. Совсем не помню лица, помню только: что-то коренастое, прочное, голова бритая. И вот рассуждал со мной: “Если Данилов в Пензе, почему не подошел к телефону и не сказал несколько слов?” Ему это показалось не случайным. Он подумал, что Данилов не берет на себя ответственность звать его в Пензу, потому что не уверен за других. Не знаю, что было на самом деле и почему Данилов не захотел с ним говорить. Ведь Янсон звонил дважды, на следующий день тоже, когда Сергей Кириллович уже издал приказ о выступлении. Оба разговаривали теперь грубо и зло, и Янсон грозил объявить Сергея Кирилловича вне закона, а тот его сильно изругал. Но накануне, после первого разговора по прямому проводу, было так: кто-то подбросил в вагон записку в конверте, я нашла на полу и прочитала. Всего одна строчка крупными печатными буквами: “В Пензу не езжайте. Арестуют и убьют”. Тут я стала лихорадочно соображать: что мне делать? Сказать ли ему? Почему-то сразу подумала на одного человека из штаба, который мне не нравился. Он постоянно настраивал Сергея Кирилловича против политотдельских и за то, чтобы выступить, и вообще вел неприятные разговоры. А меня однажды схватил в потемках, будто бы обознавшись, спутав с одной женщиной, хотя прекрасно видел, что это я, и когда я вырвалась и сказала: “А вы не боитесь комкора? Ведь если узнает, он вас на месте зарубит”, он усмехнулся нехорошо и говорит: “Еще неизвестно, кто кого раньше зарубит!” Мне это очень не понравилось. Я подумала, что этот человек может сделать Сергею Кирилловичу зло. Павел, извини меня. Я пишу чересчур подробно и не могу остановиться, все подряд вспоминается, все новое и новое, одно цепляется за другое, ты пойми, я издавна старалась об этом забыть, еще с тех пор, когда Сергей Кириллович был объявлен врагом, никому ничего не рассказывала и тем более не писала. И сама поражена, сколько всего осталось в памяти. Ведь прошло больше пятидесяти лет. Нет, наша память человеческая – поистине чудо природы.
Словом, я стою с запиской в руках и думаю: как поступить? Честно говоря, я не хотела его самовольного похода на фронт, и не из каких-то соображений высшего порядка, революции, дисциплины, что было мне чуждо, я не сильна в политике, а просто боялась за него: чувствовала, что рвется под пули, умереть, погибнуть, лишь бы не прозябать. Смерть его ничуть не пугала, а меня смерть – его смерть – пугала очень. Я такой человек, всегда волнуюсь за близких. Мне хотелось, чтобы поехал в Пензу, чтобы все как-то уладилось, усмирилось. Я не верила, что Мигулина могут арестовать, и уж совсем вздор – убить! Слишком знаменито было это имя. Вдруг он вошел в вагон, не вошел, а ворвался, впрыгнул прямо одним прыжком, как юноша – он был вообще очень быстр и скор, не по возрасту, – увидел записку, спросил: “Что это?” – и вырвал из моих рук. Он был очень ревнивый. Я сказала тому человеку правду, если бы Мигулин увидел, как тот пытался меня потискать, как конюх девку впотьмах, он бы его просто убил. Он прочел записку, усмехнулся, порвал. К той минуте было решено не ехать в Пензу, но записка повернула дело: ему вдруг стало стыдно меня. Гордость была задета. Он подумал, что я могу расценить его отказ поехать в Пензу на переговоры как то, что он испугался сказанного в записке. Он тут же приказал идти на станцию и договариваться насчет вагонов. Нужно было много вагонов, людских и конских, целый состав. Вскоре прискакал близкий ему человек, командир пулеметной команды, и сказал, что начальник станции Саранск сказал, что вагонов нет. Когда будут, неизвестно. Может дать паровоз и один вагон, больше ничего. Мигулин понял это так: они хитрят, желая, чтобы он выехал без конвоя. Тогда он разозлился и стал кричать: “С ними нельзя договариваться! Они не выполняют обещаний!” Все опять перевернулось в другую сторону.
Он приказал собрать казаков на митинг. Все въезды и выезды из города были закрыты. Каких-то работников он велел арестовать и держать их в виде заложников. На митинге прочитал воззвание, в котором, хорошо помню, был призыв идти на фронт и бить Деникина, спасать революцию, а также бить, как он выражался, “лжекоммунистов”. Это было вроде всенародного обсуждения, он советовался с бойцами, как быть. Было страшное напряжение, крики и даже стрельба в воздух. Я стояла позади трибуны и не могла успокоиться, все время дрожала, боялась, что кто-нибудь выстрелит в него из толпы. А говорить он умел с огромным вдохновением, я таких ораторов никогда не слышала. Между прочим, выступали люди, которые отговаривали красноармейцев идти за Сергеем Кирилловичем, угрожали им и ругали Сергея Кирилловича открыто, говоря, что он вне закона, и я еще удивлялась их смелости. Потому что основная масса была против них. Но Сергей Кириллович разрешал говорить всем, только сам нервничал, перебивал и кричал возражения, а того черного, лохматого вдруг прогнал с трибуны, закричав: “Я не позволю агитировать своих бойцов!” Потом этого политотдельца арестовали бойцы из комендантской сотни. Он кричал: “Можете меня расстрелять, Мигулин, но я называю вас изменником!” Сергей Кириллович сказал, что никого расстреливать не будет, потому что против смертной казни. Помню еще спор вокруг каких-то денег, взятых из казначейства. Один командир по фамилии Забей-Борода обвинял Коровина в том, что тот взял деньги. Сергей Кириллович мне потом объяснил, что деньги действительно были взяты, чтобы платить жалованье бойцам, и за лошадь платили отдельно. Сергей Кириллович был вообще к деньгам равнодушен, счету им не знал. Еще на митинге, помню, обращался к бойцам с вопросом: “Смотрите, готовы ли вы выступать?” Отвечали: “Готовы!” – “Бывает, – говорит, – такая птица лебедь, вот я вроде нее, пою свою лебединую песню. Поняли вы меня?” Поняли, кричат. Готовы? Готовы!
Ну и на другой день выступили. Всего с нами ушло несколько тысяч человек, может быть, четыре или пять тысяч, но через несколько дней, когда стал известен приказ Янсона, где Сергей Кириллович объявлен мятежником и приказывалось доставить его в штаб живым или мертвым, многие испугались, и наш отряд поредел вдвое. Были небольшие сражения, перестрелки. Настроение все время падало. Какая-то тревога, обреченность чувствовались у всех. Сергей Кириллович мечтал скорее выйти к линии фронта и вступить в сражение с Деникиным, разгромить мамонтовцев, но все это были, конечно, мечты.
Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказала, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таял. Когда комбриг Скворцов остановил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть, Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ – сопротивления не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнила до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену у своих, не будучи врагами, я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно – сокрушена надежда, ничего не смог доказать. Смерти он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил: “Где работники политотдела? Живы?” Сергей Кириллович сказал: да, живы. Махнул рукою назад. Везли двух политотдельцев как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул: “Встать, когда со мной разговариваешь, гад!” И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась, но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно: “Ты, Ванька, не свисти. А играй «барыню»”… Почему он сказал “играй «барыню»”, я даже не знаю. Но я очень хорошо это запомнила.