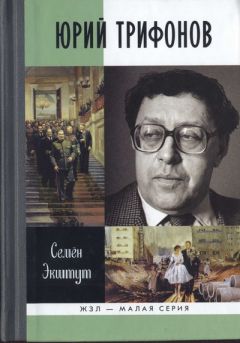Юрий Трифонов - Все московские повести (сборник)
Опять пытался со мной расстаться, посадил в бричку, выделил трех бойцов и велел двигаться на север, но я сказала, что себя застрелю, если он меня прогонит. У меня был револьвер. Опять не удалось ему от меня отделаться, чему, надо сказать, он был рад. Не помню всех подробностей похода, который длился недели три, шли лесами, глухими дорогами, ночевали в лесу, отряд наш таял. Когда комбриг Скворцов остановил нас и велел сложить оружие, оставалось человек пятьсот, не больше. Мы могли бы сражаться, могли погибнуть, Скворцов был настроен очень решительно, но Сергей Кириллович отдал приказ – сопротивления не оказывать, оружие сдать. Этот ужасный день запомнила до последней кровинки. Был ужасен не тем, что мы оказались в плену у своих, не будучи врагами, я этого как следует не понимала, я лишь чувствовала сердцем, что ему ужасно – сокрушена надежда, ничего не смог доказать. Смерти он никогда не боялся. Он был подавлен тем, что ничего не смог доказать. И очень злобно, унижающе вел себя один командир полка, Маслюк. Он подъехал на лошади, ухмыляясь необычайно надменно, спесиво, как плохой актер, и спросил: “Где работники политотдела? Живы?” Сергей Кириллович сказал: да, живы. Махнул рукою назад. Везли двух политотдельцев как заложников. Сергей Кириллович сидел в бричке. Маслюк побагровел и рявкнул: “Встать, когда со мной разговариваешь, гад!” И замахнулся ударить. Сергей Кириллович дернулся, я испугалась, но Сергей Кириллович сдержал себя и сказал спокойно: “Ты, Ванька, не свисти. А играй «барыню»”… Почему он сказал “играй «барыню»”, я даже не знаю. Но я очень хорошо это запомнила.
И такое у него было презрение, у Сергея Кирилловича. Не знаю, что потом с этим Маслюком стало. Не забуду его надутое лицо, как он смотрел на Сергея Кирилловича сверху вниз и с наслаждением произнес: гад! Он требовал расстрелять Сергея Кирилловича и нескольких командиров, право расстрела на месте у них было, и он хотел им воспользоваться, наседал на комбрига Скворцова. Сергей Кириллович вел себя спокойно. Я не могла удержаться от слез, он меня успокаивал и говорил, что я должна сделать после его смерти, как распорядиться его наследством. Боже мой, наследство! У него ничего не было. Человек дожил почти до пятидесяти лет и не имел ни дома, ни денег, никаких ценностей, ничего, кроме пары сапог, казачьих шароваров с лампасами, коня и оружия. Теперь не было и того, что имеет самый бедный неимущий казак: земельного пая. Зато были какие-то бумаги, записи, он ими дорожил и просил передать кому-то в Москве, я забыла – кому. По-моему, это были его мысли о казачьем самоуправлении и вообще об устройстве Донской области. Потом это все пропало. Я никогда себе не прощу. Когда ехала из Балашова в Москву, у меня украли чемодан с вещами, там были эти бумаги. Тогда никого не расстреляли, в расположении части Скворцова оказался один крупный военный чин, из самых главных, не помню, кто именно, видела его две секунды, когда он садился в автомобиль: небольшого роста, во френче, черная бородка, пенсне, вид штатский. Тогда, конечно, я знала, кто это был, а теперь забыла. Он распорядился отправить в Балашов, там судить военным судом. Это было сделано не из великодушия, а потому, что сразу решили, что громкий процесс важней, чем наспех расстрелять в лесу.
Тогда же меня от него отделили, и я увидела его лишь через три недели, после объявления приговора, когда дали свидание. Как проходил суд, тебе известно. Ты пишешь в своей заметке, что осужденные после объявления приговора всю ночь пели революционные песни. Может быть, так, я не знаю, но я кое-что слышала, потому что простояла ночь под стеною тюрьмы и до меня доносились обрывки песен, я слышала казачьи песни: “Ах ты, батюшка, славный тихий Дон…” и “Разве можно удержать сокола в неволе?”. Эта последняя песня была любимой Сергея Кирилловича, он пел ее часто. Правда, особым голосом не обладал и слухом тоже.
Павел, ты спрашиваешь, отчего я в письме высказала удивление тем, что именно ты написал заметку о Сергее Кирилловиче. Это неправильно. Небольшое удивление, правда, есть, но оно не главное чувство, которое я испытала, прочитав заметку, а главное – огромная радость и огромная благодарность тебе за то, что ты вспомнил дорогое имя. А небольшое удивление лишь оттого, что ты был в составе секретариата суда в Балашове в 1919 году. Помню, ты не смог помочь мне встретиться с адвокатом в первый день заседания, сказав, что поздно. Вообще, мне кажется, Павел, ты тогда как-то верил в виновность Сергея Кирилловича. Я тебя не обвиняю, тогда большинство верило. Люди находились в угаре войны, многое видели совсем не так, как теперь, когда можно спокойно все оценить.
Павел, я устала от этого письма и все время боюсь, что что-то сказать не успела. Какой-то страх, что самое важное, самое ценное о Сергее Кирилловиче написать забыла. Вчера вызывала врача и целый день лежала, очень разволновалась. Поэтому кончаю, а то можно вспоминать бесконечно. У меня сохранились случайно последние письма Сергея Кирилловича, некоторые его документы, но я тебе их пока не посылаю. Может быть, мы с тобой встретимся здесь, в Клюквине, или я приеду в Москву, у невестки есть машина, она иногда ездит в Москву по делам, за покупками. Но я бы хотела, дорогой Павел, увидеть тебя здесь, я стала плоха, истинная старуха. Обнимаю тебя. Ответь мне поскорее. Твоя Ася.
Между прочим, невестка, она довольно бесцеремонная, прочитала мое сочинение и сделала такой вывод: “Вы, матушка (называет меня, как ей кажется, остроумно – матушкой), неправильно построили жизнь. Вам надо было сочинять романы. Вы пишете – прямо не оторвешься. Как детектив”. Вот какие комплименты на старости лет. Напиши, как ты переносишь жару. У нас тут все сгорело, картошки не будет, ягод совсем не видели».
Павел Евграфович прочитал письмо дважды, потом еще перечитал отдельные места, испытывая чувство восторга и какой-то невнятной тревоги, отчего было сердцебиение и холодели руки. Принял лекарство, немного успокоился. Восторг был оттого, что умершее трепетало и жило на страницах школьной тетрадки, а тревога – бог знает… Не оттого же, что Ася написала нелепость, будто он верил в вину Мигулина. Хотя, может, и верил, но не так, как другие . Совсем не верить было нельзя. Она не должна была так писать, упрекая его спустя полвека. Просто не помнит, как было на самом деле. Было очень грубо, однозначно: изменник, и все! Чего ж она требует? К чему эти упреки? Захотелось немедленно ответить и послать кое-какие материалы, чтобы она поняла суть: как было трудно пробивать заметку в журнале! Даже теперь. Она смотрит со своей колокольни и не видит многого, не помнит, не хочет знать. А не послать ли вот это воззвание, которое он выпустил сразу после выступления?
«Измученный русский народ, при виде твоих страданий и мучений, надругательств над тобою и твоей совестью, никто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и выносить этого насилия не должен. Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои руки.
А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем биться на фронт со злым врагом твоим генералом Деникиным, глубоко веря, что ты не захочешь возврата помещиков и капиталиста, сам постараешься…» Так, так… Вот дальше: «На красных знаменах Донского революционного корпуса написано: вся земля крестьянам, все фабрики и заводы рабочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин и преклонятся коммунисты.
Командующий
Донским революционным корпусом
гражданин Мигулин».
* * *Вот ведь какая каша варилась. Всего там было намешано. Он-то надеялся, что корпус будет расти, а корпус таял. Теперь взять его отношения с Казачьим отделом. Да, первое время отношения были неплохие. Когда ездил в Москву, он встречался с людьми из отдела, они обещали помощь, и он отзывался о них по-доброму. Потом какие-то эмиссары отдела приезжали в корпус, писали сочувственные доклады. Но почему ты не упоминаешь, Ася, что на том митинге, который ты так подробно описываешь, он называл Казачий отдел «собачьим отделом» и «червеобразным отростком слепой кишки»? Это его подлинные слова!
И насчет того, кто верил, кто не верил… Да если честно, все верили! До единого. Как было не верить, когда читались такие обращения:
«Товарищи! Нами были приняты все меры к мирному улаживанию конфликта между Мигулиным и Советской Республикой. Теперь время разговоров кончено, и, чтобы вы знали, куда вас ведут и на что толкают, мы передаем решение Ревсовета Республики.
Мигулин объявляется мятежником, против него двинуты сильные отряды. С ним будет поступлено как со стоящим вне закона. Сообщите это войскам с предупреждением, что всякий, кто посмеет поднять оружие против советской власти, будет сметен с лица земли. Во избежание кровопролития предлагаю Мигулину в последний раз вернуться к исполнению воинского долга, иначе… будет считаться изменником Революции. Если подчинится добровольно, гарантирую безопасность, иначе погибель его неизбежна…»