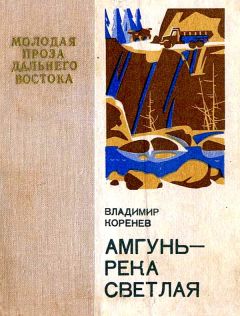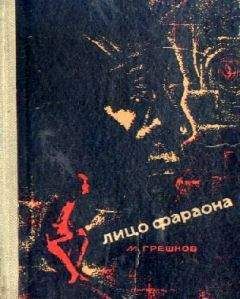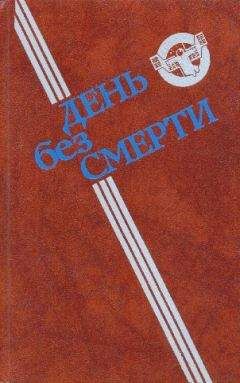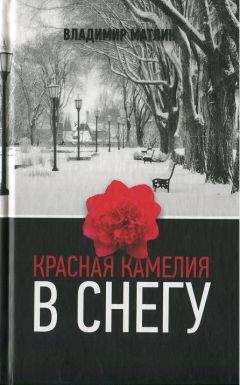Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
Часовой с вышки погрозил им кулаком, и ребятня побежала смотреть, как поднимают «кукушку».
Свалка заканчивалась здоровенным ржавым зданием склада с темными окнами, куда «кукушка» толкала вагоны, груженные пушками, пулеметами, автоматами со свернутыми дулами, пистолетами разных калибров.
Да-а, здесь бы я смог выбрать себе подходящий наган!
Миша вдруг как-то весь собрался в комок и вцепился в руль, точно вел машину по опасной фронтовой дороге. Перекинув из одного угла рта в другой окурок, он зло выцедил:
— Сколько вот этими страшными штуками убито людей. Н-не понимаю…
Таким я не видел Мишу ни разу. Всегда он был приветлив и понятен мне. А сейчас рядом со мной сидел словно незнакомый человек, ожесточившийся на войну.
Мне еще не дано было видеть за несметными кучами искореженного оружия человеческие смерти, людские страдания.
Словно очнувшись от страшного наваждения, Миша встрепенулся и, вымученно, болезненно улыбнувшись, потрепал меня по голове.
За складом металлолома пускали цветные дымы трубы мартеновских печей. Печи были окутаны облаками белого, чистого пара. Как мужики в бане, они кряхтели и постанывали, то и дело поддавая пару. Из клубящихся облаков, попыхивая, выползла «кукушка» с огромными раскаленными чугунками и покатила их на шлакоотвал.
Все кипело большой жизнью как бы само по себе: людей нигде не было видно. И только в охладительном бассейне с фонтанчиками плескались мальчишки.
Скоро запахло деревом. Из-за вагонов с углем показались высокие штабеля бронзовых сосен, белых досок и балок, кучи щепы и дранки.
В угольной и древесной пыли нарядной игрушкой перед грязными вагонами белел домик стрелочницы. В окошке красовались пышные цветы жасмина и колыхались тюлевые занавески.
Около домика, на клумбе, зубчато огороженной побеленными кирпичами, была высажена цветочная рассада.
По другую сторону дороги белеными камешками — стрелочница выложила ромб, на котором из камешков же составила: «Слава народу-победителю!»
Сама стрелочница, дородная женщина в железнодорожной форме, с чехлом на эмпээсовском ремне, строго стояла со свернутым желтым флажком на крылечке.
Вагоны с углем толкались взад-вперед — за Мишиной «полундрой» встало около десятка машин. Некоторые нетерпеливо сигналили.
Наконец состав с углем тронулся в сторону металлургического завода. Стрелочница сунула флажок в чехол и подняла шлагбаум.
Железная дорога всякий раз тревожила мою детскую фантазию. Когда я слышал паровозные гудки или дробный, завораживающий перестук вагонных колес, мне непременно хотелось куда-то ехать, чтобы сладко от дорожной тоски щемило сердце.
И на этот раз мое воображение разыгралось вовсю. Мне захотелось жить в белом домике, носить железнодорожную форму, похожую на военную, встречать и провожать поезда, распоряжаться шлагбаумами. Но домик я бы поставил не в пыли и копоти, а в лесу, где никого нет и ночью одному страшновато. Мне бы выделили дрезину, — и я на ней ездил бы за продуктами в город. А еще лучше жить прямо в вагоне и колесить по белу свету. Сколько всего увидишь — и узнаешь!..
Мне показалось, что Миша угадывает мои мысли и подозревает меня в предательстве шоферского дела. И я стал думать, что шофером быть тоже неплохо. Крути себе баранку да поглядывай по сторонам. И всех старушек, как бабушка Крюкова, развози по домам…
А вечером, таким погожим и приветным, что невозможно было усидеть в четырех стенах, весь барак вышел на поляну под высокие мачтовые сосны.
Збинский вынес хромку, закрыв бородой гармошку, заиграл кадриль. Но в круг никто не вышел, и дед, не докончив танец, передал хромку «зклученной фыксе», Мише Курочкину.
Миша важно сел, склонив кудрявую голову к планкам, прислушался. И тут Карзай выбил из-под него табуретку, но Миша как ни в чем не бывало продолжал сидеть, будто табуретку никто и не выбивал. Все знали, что у них с Карзаем это такой номер — все отработано как в цирке.
Миша рявкнул аккордами, пробежал по кнопкам сверху вниз, неожиданно вскочил на табуретку и отчебучил такую чечетку, что ножки табуретки впились глубоко в землю. Тут уж никто не выдержал. Земля загудела от русского, цыганочки: плясали все.
Дроби, дроби, дроби — бей,
Дроби, ноги не жалей, —
взвизгивала жена Карзая, долго топотала и выхватила из толпы своего Сашку.
Тот дурашливо встал нараскоряку, потоптался увальнем и спел вятскую частушку:
А ты Лукерья, ты, Лукерья,
Не натощенной топор.
А побывать бы тяперь дома,
Похлебать бы молощкя.
Выступила павой моя «невеста» Ольга:
А вот и я, а вот и я,
А вот и выходка моя, —
выхватила она из рукава платочек и пошла по кругу.
Замерло мое сердце. Какая Ольга красивая! Надо скорей подрастать и жениться, а то ухлестывает за ней один из десятого барака.
Откуда-то вышмыгнула помятая, сморщенная бабенка и, подлабуниваясь к Мише, попыталась его обнять:
Мама, я шофера люблю.
Мама, я за шофера пойду:
Шофер ездит на машине,
Меня возит он в кабине —
Вот за это я его люблю.
Да! Да!
Миша оттолкнул ее, отшлепал чечетку ладошками по табуретке и поставил на нее хромку.
Дед Збинский надолго зарядил барабушку: «Тына, тына, у Мартына…»
Играй, дед! Веселись, пятый барак — случайное братство случайных людей. Нет, случайным все было только поначалу. А потом все стало таким, как и должно быть между людьми.
Пляши, друг мой дорогой, Миша Курочкин. Осталось тебе жизни всего полдня. Не от ожившего оружия со свалки ты погибнешь — разобьешься насмерть в дороге. О чем подумается тебе? Может, вспомнишь военную свалку, опять ожесточишься на зло человеческое и оттого погибнешь?..
Не понимаю. Зла людского не понимаю.
И смерти твоей, Миша, не понимаю.
Пока не переплавлен металлолом с военной свалки, пока я жив, я буду помнить о тебе, Миша.
Играй, дед Збинский.
Веселись, пятый барак.
Дерёвня
Мы переехали в новый дом, — половину которого заняли общежитники из пятого барака. На всякий случай перевезли и потускневший барачный титан: вдруг заерундит котельная, расположенная в подвале нашего дома.
Работы у матери поубавилось, она так обуютила нашу комнату, что соседям по дому нравилось бывать у нас. Молодые женщины шли к матери за советом, доверяли ей самое сокровенное.
Ко всему новому я привыкал трудно. И в городской жизни поначалу все стесняло меня. С местными пацанами сошелся не сразу и то с помощью бывалого Саньки Крюкова, который, к моему удивлению, не особенно-то и важничал передо мной, Дерёвней, как прозвала меня местная ребятня за мою робость и бедненькую одежку. Хотя, к моей зависти, у Крюка появился настоящий отец — милиционер.
На Дерёвню я не обижался, но всякий раз после этого прозвища на меня находила тоска. Не по бараку, нет — по Селезневу.
Из-за этой тоски в первый же ливень я до икотки распотешил пацанву.
После грозы разлилась возле дома лужа. Не лужа, а озеро. Вода прозрачная, чистая. Стелилась под водой шелковистая трава. И солнце словно смеется, подзадоривает:
— Ну что, мальчик, разве не хорошо озерцо.
Эх, была бы какая-нибудь речка. Хотя речка-то есть. Она совсем рядом. Да уж больно много у нее названий: Горячка, Вонючка, Помойка, Смолянка. Вся в кроватях, автопокрышках, консервных банках. Не речка — грязь и вонь одна. Скорей бы запрятали ее в трубы. А лет пятнадцать назад, сказывают, ловили в ней, в Вязовке, щук.
Не удержался я, вспомнил, как с первым теплым громом пол-Селезнева кувыркалось через головы в грязи, в лужах, чтобы поясницу не тянуло во время страды, снял трусы и плюхнулся в лужу, как в Елабугу.
Девчонки завизжали, пацаны загоготали: «Ну Дерёвня, ну кино!» А самих завидки берут.
Забултыхал я ногами — брызги во все стороны. Пацаны отскочили, за животы схватились: не могут — такая умора.
Козя мои трусы подобрал, чтобы выменять их у меня же на самописку или расческу — такой меняла!
Я уже ничего не вижу и не слышу. Правда, вода тепловатая.
Вот я держусь на спинке. Раньше не мог, а теперь запросто.
Трава спину ласкает, от солнца глаза слезятся. Снова на живот и по-чапаевски, вразмашку. Мелковато что-то. Смеются все: и ребятня, и утки, и гуси. И ласточка проносится над нами и тоже верещит — смеется. Серко заржал: его на водопой пригнал Панька Тимков. Съехал коню на гриву и подскакивает, чтобы Серко пил скорее. Шлепнул конь черной губой по воде, оскалил желтые зубы и тоже смеется…
Вдруг все затихло. Смотрю — лежу я в грязной луже, весь в траве, а от дома идет мать с бельевой веревкой. Уже кто-то успел наябедничать. Тикать надо, пока не поздно. Где же трусы? Козя, гад, заныкал. У-у, козел рогатый.