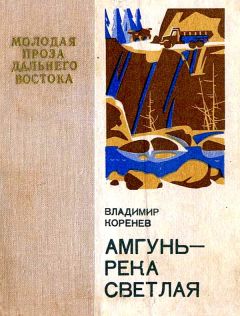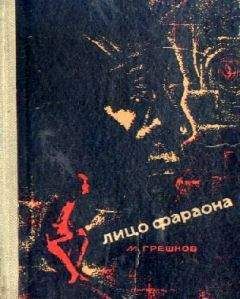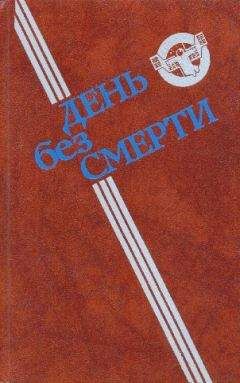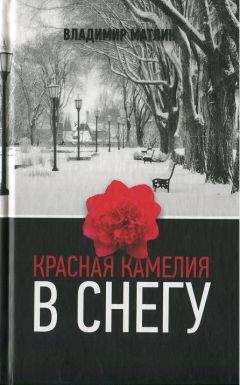Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
— Куд-куда-куд-куда? Куд-куда-куд-куда-а-а? — заспрошали куры.
Мужичок согнулся и правой рукой бросил воображаемые зерна. Петух клюнул первым, за ним стали клевать и куры.
Вот это игрушка! Всем игрушкам игрушка. И дядя Боря сделал ее сам.
Я пошел похвастаться Мише Курочкину. Обычно, когда я приходил к своему другу, он с выражением читал мне «Песнь о вещем Олеге». Но мне сейчас было не до «Песни». Я вошел и, кряхтя, долго закрывал за собой дверь. Осторожно, как блюдечко с чаем, я держал на ладошке птичник, который при малейшем наклоне приходил в движение.
Увидев меня, Миша раскачался и сел на краешке койки. Я торжественно подошел к нему и начал свой номер. Миша сидел прямо и безучастно, тогда я перестал дергать фигурки.
— Я деньги дяди Борины на колонке нашел. А дядя Боря мне фуражку и игрушку-дал. — И вдруг, по-взрослому глядя на Мишу, я спросил его: — Миш, а Миш? Вот бы дядю Борю мне в папки, а?
— Мужик-то он, Толяй, ничего, да пьет. А зачем тебе папка? Ты уж и сам вон какой вымахал — не удержишь, — отсоветовал Миша.
Я между тем пристроился качаться на его ноге.
— Чо варежку разинул? Знаю, о чем хочешь спросить. Сейчас я в командировки езжу — это далеко: в Челябу, в Свердловск. Вот май настанет, тогда будем с тобой разъезжать по городу. До одури накатаешься. А про дядю Борю забудь. Игрушки игрушками, а лучше книг на свете нет ничего. Писатели тебе что шофера. Все видели, все знают и нам рассказывают. На-ка вот книжку. Как раз для тебя.
Миша достал из тумбочки тонкую книжку с яркой обложкой «Кузнец Кова» и протянул ее мне.
— Спасибо, — прошептал я, очарованный красивой обложкой, на которой могучий бородатый кузнец, похожий на дядю Сему, замахнулся мечом на гадкого толстощекого пузана.
— Не про себя читай, а вслух, чтоб и мама слышала, — проводил меня Миша до двери. — Ну пока, — подал он мне руку.
Все-таки дружбы с дядей Борей-ефрейтором я не терял. В первую оттепель в форменной фуражке я заявился к нему на вахту. Ефрейтор чаевничал вприкуску с комковым сахаром.
— Помогать, служивый, пришел, — заокал дядя Боря. — Садись, щайком побалуйся. — Он расколол молотком большой кусок сахара и намазал маргарином хлеб. — Знаю, шибко ты маслисо обожаешь.
Я чинно снял фуражку и сел напротив ефрейтора. Как ни хотелось мце почаевничать, я псшнил наказ Миши не конфузить мать и не гостевать дело без дела.
— Я не хочу, — выпятил я живот и хлопнул по нему. — Вот, надулся уже. — И, лукаво сощурившись, спросил: — А чем вы игрушки режете?
— Березовый щурбащок и перощинный ножищок — вот и вся премудрость, — вытер дядя Боря о хлеб масленый ножичек с зеленой перламутровой ручкой. Достал из тумбочки точильный брусок, пожикал лезвием и протянул нож мне: — Сделай для нащала, э-э, нет, нет, не рогатку… Э-э, матери скалку — сощни катать.
Вторая комната, после того как Надя-комендантша разогнала блатных, стала образцовой. Здесь поселился Саша Карзаев, которого Миша Курочкин дразнил:
Рыжий, рыжий, конопатый,
Треснул бабушку лопатой.
Саша каждый вечер с таким ожесточением тер мочалкой лицо, шею, лопатки и грудь, что, казалось, красная кожа вот-вот свернется. Конопушки после такого мытья становились еще ярче и гуще.
Матери моей Сашины водные процедуры не нравились: шибко много воды расходовал этот чистюля.
Хотя я давным-давно ни у кого ничего не выпрашивал, Карзаев всякий раз, завидя меня, пригибался, делал руки крылышками и, помахивая, по-утиному шел мне навстречу. Затем, как я когда-то, прикладывал руку «звездочкой» к уху и спрашивал:
— Хлеба с маслисем?
У меня на этот случай была своя защита: я выпяливал язык, закатывал глаза, тряс головой:
— Бе, бе, бе, — и, если Карзай вовремя не убирал «звезду» и не шел на мировую, морщил нос, суживал глаза и дразнил обидчика: — Вятчкой ляпоть, вятчкой ляпоть. — И, мотая головой, пел Мишину дразнилку:
Вятчкие слывем недаром:
Семерых одним ударом
Мух.
И добавлял свое:
Мух, мух, мух, мух —
Вятчкой ляпоть протух.
Карзай от смеха катался по полу, подкатывался ко мне и щекотал.
Я заливался смехом, кусался, царапался и стонал:
— Ой, не могу-у-у.
— Сдаешься? — смеялся Карзай. — Говори, что больше не будешь.
— Больше… буду, — вырывался я, прыгал, кривлялся, корчил рожицы и неожиданно шел на мировую: — Саша, расскажи сказку, а?
Карзай придумывал на ходу всякие истории и в полутемном коридоре у печки рассказывал их мне. Чего только не соберет. И про чердачиков — маленьких человечков, живущих на чердаках, и про тунгусиков, которые выпали звездами на реке Тунгуске, и про синюю руку, которая хотела задушить падчерицу, а девочка топором отрубила ей палец, и это оказалась рука мачехи.
Я словно входил в Сашины рассказы, жил в них, и сам становился чердачиком, тунгусиком и смелой девочкой, отрубившей злой мачехе палец. И эта рассказовая жизнь продолжалась и во сне. Я часто вскрикивал, размахивал руками и даже падал с кровати. Потому Карзай в своих рассказах немного поубавил страстей и добавил смешного. Теперь героями его рассказов стали озорные домовые, больные радикулитом, страдающие хроническим насморком и потому постоянно чихающие и кашляющие. Одного домового по чиханию звали Апчхи, а другого Пси. Неутомимые на выдумки, они все время подтрунивали один над другим и разыгрывали домочадцев. Я весело смеялся, когда Апчхи, решив избавиться от проклятого насморка, сказал себе: «Клин клином вышибают» — и влез в корчагу с молоком. А там, оказывается, для того чтобы молоко было вкусным и холодным, сидела бородавчатая жаба. От страха домового прошиб пот — он вылечился от простуды, но заразился жабьими бородавками. Одна бородавка выросла у него прямо на носу, и, когда она шевелилась, а это делала она довольно часто, Апчхи снова чихал: «Апчхи!»
Последние Сашины рассказы выходили невеселыми: он получил письмо с Вятки о смерти матери. Кроме нее, у него из близких родных никого не было. Он остался один. Осиротел.
Хотелось мир повидать и себя показать — вот и завербовался на Урал. Не думал, что мать так скоро умрет. По хозяйству сама управлялась, в колхозных передовицах ходила. Видать, без него, без родного, сдала здоровьем, сиротинушка. Кабы не шлялся он по белу свету, а жил бы с ней рядком да ладком… Осиротил мать, и теперь сам сирота…
Жалея бедную мать, он проклинал себя, бессердечного и беспутного. Тяжесть вины перед матерью непосильным грузом давила на него. Словно что надорвалось в нем. Мало-помалу Саша начал попивать. Чистоплотный, аккуратист, он перестал следить за собой, ходил в чем попало и, пьяный, бился головой о стенку: все казнился, что недопокоил старушку мать.
Он стал задумчив. Уставится в одну точку и смотрит, смотрит, пока то, на что он уставился, не зашевелится.
Сваривал как-то верхние перекрытия, оступился, но, к счастью, упал на большой лист, выгнувшийся под балкой горбом, который и смягчил падение.
В день выписки из больницы Сашина невеста повезла своего любимого с загипсованной ногой в загс. После регистрации свадьба веселой гурьбой ввалилась к нам: не без помощи матери познакомились молодожены.
Мне женитьба поглянулась. Все веселые, добрые, красивые, и сладостей всяких много, и фруктовой шипучей воды — пей не хочу.
Тут же в свадебной толчее я приглядел и себе невесту, белокурую Ольгу, которая, разумеется, была самой красивой, красивее даже Сашиной невесты. Я разоткровенничался с Мишей Курочкиным, и скоро весь пятый барак знал о моей симпатии.
Бабушиа Крюкова
На сретение в марте мать испекла жаворонка. Румяный, рассыпчатый, он так и таял во рту. И мне захотелось, чтобы мать состряпала селезня… Есть его я не буду, а поставлю на подоконник вместе с геранью, где раньше стоял пластмассовый утенок. Мать обещала испечь селезня, когда будут деньги.
В мае я вспомнил об обещанном, наточил о кирпич перочинный складешок, подаренный мне дядей Борей-ефрейтором, нашел березовое полешко и стал на солнечном крыльце строгать лопаточку для замешивания квашонки.
Вышла на солнышко и Санькина бабушка. Она села рядом со мной и зашамкала:
— Ишша, какой молодес. Работяшшой.
Я солидно промолчал, поставил почти готовую лопатку на ступеньку и босиком побежал по прохладной травке искать стеклышко. Стеколко я мог найти сразу, но трава была такая ласковая, так пощекотывала ноги, что я какое-то время забыл о столярничанье и стал вприпрыжку бегать по молоденькой травке.
Вдоволь набегавшись, накувыркавшись, я принялся скоблить стеклышком свое изделие. Лопатка получилась на славу: белая, гладкая, только одно плечико ее было выше другого, но мне не терпелось порадовать мать.