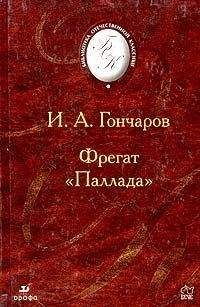Борис Мисюк - Час отплытия
— А селедочка в порядке! — хвалит моторист (его роба в масле, не чета матросской, стираной).
— Всякая есть, — басит наш бородач.
— Нонешний год — мелкота, — по-вологодски жмет на «о» Коля.
— Это мелкота-а-а? — удивляется молоденький парень, подняв за хвост над донышком тридцатисантиметровую селедину.
— Таких штук десять — пятнадцать на бочку, не больше, — поучительным тоном говорит штурман, прихлебывая из стакана в желтом, под золото, подстаканнике. — Так, ребята?
Бородач авторитетно кивает, физиономия его непроницаема, и тянется ножом за маслом. Юра тоже кладет на свой ломоть плотный желтый слой и говорит:
— В позапрошлом я на нерестовую сюда ходил, так почти вся была вот такая.
— Селедку теперь, как цунами, предсказывают, — глядя чуть поверх стакана, почти сердито роняет штурман и ворчит: — Пойдет не пойдет, поймается не поймается.
Потом застучали на палубе лебедки, раздался протяжный разбойничий свист, и мы дружно подхватились, поблагодарили за чай-сахар и потопали к своим бочкам.
До полвосьмого утра — солнце уже запустило в наш трюм теплые свои щупальца — мы закончили второй шар. До верха, до палубы, оставалось, поставить еще два, не больше.
— Днем зашабашат, — сказал бородач. — Отвалим к вечеру.
Мы все устали за ночь, как ломовики, всех явно тянуло в сон. Я даже на завтрак не пошел, вяло помылся и завалился на нижнюю койку, помянув добром Юру, уступившего ее мне.
Обед я проспал тоже, хоть Юра и пытался меня поднять, и проснулся лишь к чаю, то есть к 16-ти часам. И это было очень здорово. Во-первых, я выспался, а во-вторых, снова на чай было то же царское блюдо, которое мы впервые отведали вчера. От пуза, что называется, наевшись парной селедочки, мы с Юрой вышли на палубу. Там вовсю суетились матросы — убирали штормтрап и страховочную сетку из-за борта, разбрасывали бочки, завалившие кнехты со швартовами. На палубе рефрижератора тоже беготня. И голос, усиленный спикером:
— Отдать кормовой!
В воду плюхается толстый капроновый швартов.
— Отдать прижимной!
И снова — плюх.
— Отдать носовой!
А под кормой «жирафа» уже вскипает странного — лимонного цвета вода, он дает полный ход и берет курс на материк. Все стоящие на палубе провожают его долгими задумчивыми взглядами. «Николаевск-на-Амуре» — написано на его корме, это порт приписки судна. Ему туда ходу всего несколько часов, по карте так совсем рядом. Кстати, лимонный цвет у воды здесь оттого, что она не морская, а амурская. Говорят, и глубины тут малые — опять же из-за речных наносов. Во мощь! Считай, в открытом океане — материка и в бинокль не увидишь — царствует река.
«Жизнь, — думаю я, — это океан. И сумей пройти по ней вот так же — рекой. Сумей остаться самим собой. И нужна для этого не просто сила, нужна мощь».
— Боцману на бак! — разносится рык спикера уже над нашей палубой. — Вира канат!
С удивлением прислушиваюсь… Да, на носу пыхтит паром брашпиль, полновесно позвякивают звенья якорь-цепи. Тащу Юру поближе к баку. Смотрим, прижавшись к борту, как медленно вползает цепь в клюз, как мокрые, блестящие звенья — каждое в полтора пуда весом — легко соскальзывают с барабана брашпиля и с мелодичным звоном исчезают в недрах канатного ящика.
Так вот почему «канат»! Это архаизм, пережиток парусного прошлого, когда действительно были еще канаты вместо цепей. И все же «Вира якорь!» куда приятнее на слух, романтичнее, да и традиционнее, чем «Вира канат!» В последнее время часто слышишь, как сами моряки современный теплоход, лайнер величают старинным «пароход», «корвет». В этом есть и особый шик бывалости, и легкая тоска по ушедшей романтике, прикрытая скептической усмешкой, и что-то еще…
22 часа. Мы давно должны быть на смене, но работы в цехе сейчас нет: после окончания перегруза успели даже пустые бочки с палубы в трюм убрать и «марафет» везде навести, то есть окатить морской водой палубу и твиндеки. Поблескивает мокрый вороной металл, селедочная чешуя вся смыта за борт, кругом тишина и покой. Ну а когда работы нет, вся «промтолпа», то есть мы, матросы-обработчики, смотрим кино в столовой, кое-кто режется в карты по каютам, а кое-кто и «балдеет», те, кому удалось правдами и неправдами раздобыть спирту в Москальво.
Мы с Юрой, надев фуфайки — ветрено и холодно, хоть и июль, — сидим наверху, на шлюпочной палубе, удобно так, с комфортом расположились на каких-то снастях, накрытых брезентом, и молча созерцаем стихии.
«Весна» идет полным ходом, вразрез волне. Ветер — «по зубам», как говорит Юра, нордовый, баллов семь. Глянцево-черный океан в пепельных сумерках вскипает каждым гребнем, и голубая пена барашков походит цветом на подсиненное крахмальное белье. И лимонная вода у борта — чуть перегнись за леер — и увидишь — возвращает детство: отец всегда бросал в ванну большие круглые хвойные таблетки, и вода становилась точь-в-точь такой же. «Весна» ныряет великанской уткой с волны на волну. Сталкиваясь у борта, волны рассыпаются пеной, и она шипит и шуршит, как по гравию где-нибудь в Гаграх.
И цепочка мыслей струится и вьется в проветренной морем и первой рабочей сменой голове: Саша — Тома — поиски друг друга… в океане — поиски себя.
Мечутся люди, ищут дела для души и тела. Занесло вот и меня в море. Не в первый раз уже. А нашел ли я себя? В тридцать-то лет… Стихия и стихи — что ж, в этом должна родиться гармония. Должна! И почему бы и не сложиться…
Тихий, огромный, как небо,
Сине-стальной великан.
Буйный, взлохмаченный, гневный.
Ласковый, трепетный, нежный…
Сердцем я твой, океан!
Рефрижератор «Космонавт» и рыболовный сейнер «Персей» — это слон и моська. Из ревизорской каюты «Космонавта» даже на клотик РСа нужно смотреть сверху вниз, а мостик «Персея» — как раз на уровне палубы «жирафа». Экипаж — там сто человек, здесь пятнадцать. Каюты на РСе есть только у капитана и стармеха, да еще у радиста коротышка диван в крошечной радиорубке. Койка старпома «раскинулась» в шестиместном кубрике, в носу. И как дань уважения — нижняя. Матрос ночью, без пяти четыре, толкнет под бок: «Сергеич, на вахту», ты ноги на палубу — и сразу в сапоги попадаешь. Комфорт — это самая относительная штука в мире. В ширину палуба РСа составляет восемь шагов, а от носовой тамбучины, где кубрик, до кают-компании, где все остальное, — чуть больше десятка. Вот, считай, и весь пароход. За две недели Саша привык уже к новому ритму жизни. А ритм-то простой — ритм охотоморской волны. Ты ее шкурой начинаешь чувствовать: слева больше поддает, значит, идти по правому борту. Выглянул через пятачок дверного иллюминатора — ага, волна рядом. Шасть на палубу, хлоп дверью и — к тамбучине, да пошустрей: РС меж двумя волнами в самый раз умещается. Протабанил, не поспел — шмутки суши потом. Июль июлем, а лед всего полмесяца назад еще выгоняло ветром из бухты Нагаева. Так что печка-киловаттка в кубрике все время врублена. А отдельная каюта и правда здесь ни к чему. «На хрена волку жилетка — он в кустах ее порвет» — так сказал капитан инспектору портнадзора, когда тот требовал записывать в судовой журнал количество пройденных миль на промысле. «Работаешь на кошельке, — объяснял капитан, — дергаешься туды-сюды, как паралитик. Какие ж тут мили писать? Вот когда селедка уже в трюме, бежишь на сдачу к базе миль десять — двадцать, тогда другой коленкор».
За две недели промысла «Персей» раз тридцать метал кошелек, а сдавал раз семь, не больше: рыбалка пока никудышная. Обрабатывающий флот тоже наполовину простаивает. Поэтому начальник охотоморской сельдевой экспедиции распределил между базами добывающие суда поровну. «Персей» приписан к камчатской плавбазе «Северное сияние». И вот за все это время Саша только и успел побывать на ней да еще на приморской базе «Шота Руставели». Тамары Серегиной там не оказалось. Саша у обоих четвертых помощников судовые роли смотрел. На «Северном сиянии» четвертый не очень любопытный парень, а вот на «Руставели» — как начальник отдела кадров: кто да что, зачем да отчего? Саша вспомнил беседу «на ковре» во Владивостоке. Джентльменский уговор, заключенный на отходе «Космонавта» месяц назад, закончился едва не выговором вместо премии. В конце концов кадровик, видя, что парень не думает уступать, обозвал его ишаком, подмахнул подпись на заявлении, едва не разорвав бумагу своей шикарной семицветной ручкой, брезгливо отодвинул его на край огромного стола и не проронил притом ни звука. А Саше от него большего и не требовалось.
В рыбколхоз устроился, на удивление, быстро, легко. И здесь специалистов только давай — штурманов, механиков. Как почти везде на Дальнем Востоке. Морская интеллигенция льнет к черноморским да балтийским берегам, норовя прожить по старым пословицам вроде «рыба ищет где глубже…» и придумывая новые: «лучше Северный Кавказ, чем южный Сахалин».