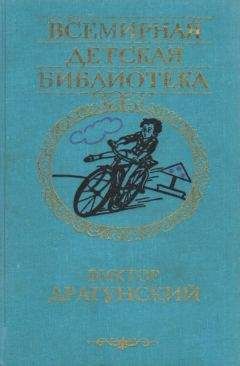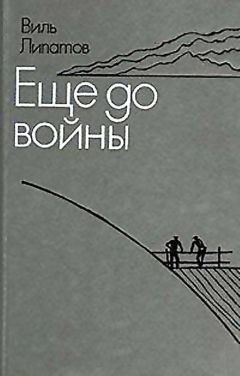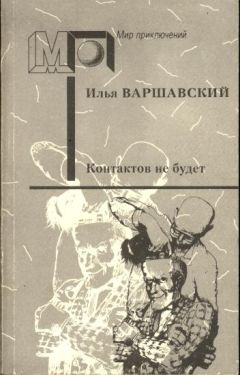Эрнст Сафонов - Избранное
В прозе Э. Сафонова эти «пересечения» носят, как правило, характер завершенных философских миниатюр в форме диалога ли, монолога, авторского отступления. Разве не о передаче животворной энергии души это откровенье шофера Бабушкина: «Старые люди учат добру, они в свои преклонные годы хотят, чтобы все вокруг было таким же простым, ласковым и прекрасным, как мягкая трава, высокое небо, теплая земля… У них же близкое расставанье с травой, небом, теплой землей — они оставляют все это Петьке, всяким прочим Петькам, чтобы те, когда настанет неизбежный черед, спокойно и по-доброму передали неразрывающееся дыхание вечной жизни другим…»
Или разве не о законе справедливого возмездия это наблюдение писателя Дмитрия Рогожина («Старая дорога»), который в бытность молодым журналистом поступил против совести, незаслуженно обидев и своим поведением и фельетоном ни в чем не повинных людей: «…Оказывается, у человеческой памяти есть подлое свойство: она ничего не выбрасывает, не теряет из своих миллионных кладовых, бережет до определенного момента, неожиданно с медвежьей услужливостью выдает на-гора́ то, о чем казалось бы, накрепко забыто, о чем в конце концов можно было бы забыть…»
Предначертанный жизненный круг рано или поздно замыкается, но далеко не все готовы осознать и принять это. В повестях и рассказах Э. Сафонова герои, сотворившие недоброе дело, почти всегда встречаются потом, спустя много лет, с теми, кто пострадал от них. И это наказание — памятью, взглядом, стыдом, — самое жгучее. Многие готовы перенести испытание голодом, болью, холодом, но не нравственным этим укором, от которого никуда не деться, потому что он в самом человеке.
Не так уж он и прост, этот «простой» сафоновский герой, умеющий столь тонко чувствовать и столь глубоко размышлять. Особенно отчетливо умение прозаика сложнейшие философские, нравственные, социальные проблемы выразить через образ жизни и мышление не выдающейся вроде бы личности отражено в рассказе «Лестница в небо» — рассказе о жизни и судьбе человека, обреченного на испытания, но спасаемого надеждой; верящего в себя, но и верующего в высшие силы, искушаемого соблазном проклясть, но не поддающегося искусу и продолжающего терпеливо, без ропота, нести тяжкий свой, какой уж есть, крест.
Вернувшись в Варшаву в сорок пятом, капрал Здислав Яновский, единственный оставшийся в живых из всей семьи, «уцелевшая веточка с погубленного дерева», должен начинать жизнь сызнова, с нуля. Ну и что, что вещи украдены пригретым в дороге подростком Ендреком, что надо искать крышу и пропитание; зато — жив, зато — в любимой Варшаве, зато — «небо сыпало сверху золотые иглы: они плавали в синем воздухе и прошивали зелень тополиной листвы». Зато — встретил замечательную Марию, ставшую его женой, даже дом обрел — «гнездо» в высокой башне, куда надо было взбираться по четырехметровой лестнице, убираемой на ночь; лестнице не в скворечню, как прозвали они свое пристанище, а — в небо, ибо чувствовали они себя воспарившими над землей, — как все влюбленные.
Тут заслуживают отдельного разговора и стиль, и композиция, и система образов. Я же хочу сказать о том, что наиболее привлекает меня в творчестве прозаика вообще и что нашло наиболее явное отражение именно в этом рассказе, который так долго не мог пробиться к читателю, — попытке уважительного, глубокого разговора о столь не поощряемом, почти запретном последние десятилетия предмете, как судьба. Да, все она же, в которую окончательно поверил после ранней смерти Марии сам Здислав и в которую нет никаких оснований не верить и читателю, — автор ведь не просто выстраивает канву жизни своего героя, а прослеживает предначертанную, замыкающуюся в круг линию его жизненного пути. Судьба свела его и Марию, — «похожих людей, которых уже мало что изумляло»; она же витала и над подпоручником Вавжкевичем, утром сказавшем о том, что умрет, и к вечеру глупо и нелепо, случайно погибшем от шальной пули; она же спустя три десятилетия свела Здислава и Ендрека, когда-то укравшего у него вещи, а теперь уводящего, и тоже навсегда, выросшего внука Здислава, Юрека; она же, все она, словно эксперимент ставившая на этом человеке, приводит Юрека и его друзей именно в с к в о р е ч н ю, где когда-то начинал обживаться дед; и она же дает им в руки именно тот самый «шмайсер», который Здислав принес с войны, дает в те дни восьмидесятого года, когда на улицах Варшавы стоят танки, а сами улицы патрулируются десантниками.
Много совпадений? Нет, их значительно больше, да и не совпадения это, а вовсе иное, то, о чем герой, пугаясь собственного открытия, подумает: «Все рассчитано в мире: как колосу вызреть, а девушке девушкой родиться, где жабой жить, а где — в поднебесье — жаворонком петь, и свое точное астрономическое кружение у разных околоземных планет. И человек — сам по себе планета! Модель ее! Запущен на предназначенную ему орбиту…»
Орбита Здислава — орбита катаклизмов; но она — его, какою бы ни была, другой не дано. И фантасмагорические ситуации, которые в отечественной литературе разве что у Булгакова только и встречаются, здесь уже не просто совпадения, здесь они — знак, своего рода крест, который Здислав несет на свою Голгофу. Иначе и нечем объяснить, что первый муж его дочери, демонический саксофонист, пытаясь угнать самолет, убивает второго ее мужа, штурмана Марека, и сам погибает, хотя доселе они никогда не виделись, и эта роковая встреча была единственной; что дочь, в поисках счастья исчезнувшая из дома и колесящая по миру, объявляется только после смерти отца; что, наконец, и гибнет Здислав, падая с той самой л е с т н и ц ы в н е б о, — ее отталкивает, наверное, Юрек, подумавший, что их выследили, и не узнавший деда…
Стремившийся к небу, с него и падает герой. Воевавший за свободу внука, им же и отторгается, ибо не той оказалась свобода, не такой. Пересекаются орбиты, совмещаются сферы, и все это — внутри одного человека, обязанного все вынести, ибо без него т а к о г о, мир не полон.
…Эрнст Сафонов — автор романов, повестей, публицистических работ. Но прежде всего он, на мой взгляд, тонкий, талантливый рассказчик. Это — особый дар отсекать лишнее, доводить фразу до филигранной точности, деталь — до объемности. Ни Э. Сафонов, ни его герои не поучают читателя, как надо жить, что такое хорошо и что такое плохо. Они просто живут, эти герои, — как умеют, как совесть им велит, как судьбой предначертано. И, как планеты с сильным полем, притягивают нас на свои орбиты, в свои сферы. Не надо этому противиться — это обогащающее знакомство, когда душа с душою говорит.
И если уж завершать разговор о судьбе: коль эта книга попала в ваши руки, — открывайте ее и читайте; ничто в этом мире не бывает случайно. А подобные встречи — тем более.
…Не знаю, сколь важно для настоящего писателя, чтоб его хвалили; наверное, да, желательно, но — важно ли? Думаю, куда необходимей, чтобы понимали то, о чем он хочет сказать. Как пишет об этом Э. Сафонов в «Хлебе насущном»: «всем хочется быть услышанными. И услышать слово человека, живущего совсем не так, как живешь ты сам, — это разве не приобщение к человеческой тайне?.. Возьми — и отдай сам…»
Читая повести и рассказы Э. Сафонова, я стремился именно п о н я т ь, и душа при этом благодатно трудилась. Хочется пожелать того же и читателю, — собранная здесь проза, право же, достойна чтения вдумчивого, неторопливого и сочувственного.
ИВАН ПАНКЕЕВ
Примечания
1
Гурт — волк (туркм.).
2
Глинобитный азиатский дом с глинобитным же подворьем.
3
Будь здоров! Или: спасибо! (туркм.)
4
Туркменская лепешка с мясной начинкой.
5
Первая буква арабского алфавита в виде прямой палочки.
6
Кислое верблюжье молоко.
7
Высшая мусульманская школа.
8
Духовное лицо высокого ранга у мусульман.
9
Нищий, бродяга.
10
Одногорбые верблюды, отличающиеся особой выносливостью и силой.
11
Русские.
12
Двухструнный национальный музыкальный инструмент.
13
Одно из местных названий Амударьи, что означает: необузданная, бешеная.
14
Снадобье, обладающее определенными наркотическими свойствами.
15
Мейхана — питейный дом.
16
Скатерть с хлебом и другими кушаньями; еще, в наши дни, низенький, не выше 15—20 сантиметров, накрытый для еды столик, перед которым сидят по-азиатски, скрестив ноги.