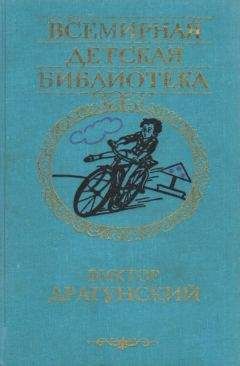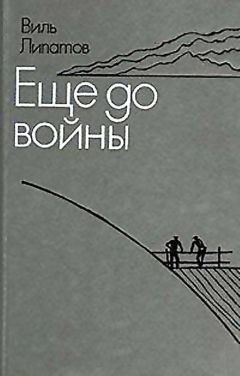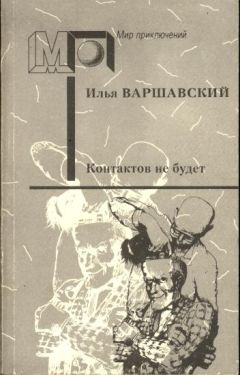Эрнст Сафонов - Избранное
Ударившись затылком об лед, он не ощутил боли — лишь успел осознать, как от страшного взрыва на черные и красные осколки разлетелся земной шар. И ничего больше.
P. S. Полноты ради повествование нужно дополнить еще одним эпизодом — примечательным в своем роде, но применительно к происшедшим событиям, возможно, несколько запоздалым.
Вот он, этот эпизод…
Спустя месяцы летним утром у запертых дверей квартиры Здислава Яновского появилась довольно экстравагантная супружеская пара: толстая женщина в излучавших чистый благородный свет бриллиантах и худой мулат с оливковым лицом, обтянутый белым чужестранным мундиром с золочеными пуговицами и густыми эполетами. Стародавние жительницы дома с изумлением признали в богатой важной даме с далеко выдвинутой вперед и большой, как прилавок магазина, грудью давно исчезнувшую дочку столяра Яновского Веронку, которая, понятно, оставалась в их памяти худой, с плоским животом, без какой-либо заметной (не как ныне) задницы и уж конечно без таких умопомрачительных драгоценностей на шее, в ушах, на запястьях, которые сейчас, сверкая и переливаясь на ней, могли поспорить с ярким солнцем.
Но это на самом деле была она, Веронка, потому что, прослезившись, посморкавшись в кружевной платочек, она сама же подтвердила ошеломленным старухам:
— Это я. А это мой генерал.
Мулат при этом любезно улыбнулся, шаркнул ногой в черном лаковом ботинке со шпорой.
Тут все старухи стали вслух и вразнобой вспоминать, когда же они в последний раз видели пана Здислава и его внука Юрека, и выходило, что давно не видели. А самая молодая из старух сказала, что кто-то кому-то когда-то говорил, что пан Здислав и Юрек подались в деревню, где можно жить без продуктовых карточек, можно покупать мясо и молоко, и эта деревня вроде бы под Ловичом, между Ловичом и Кутно. Там и следует их искать. Не исключено, впрочем, что сами они не сегодня завтра вернутся, потому что сейчас в Варшаве совсем не то, что было вчера-позавчера…
Пани Веронка достала из сумочки бумажную салфетку и написала на ней следующие слова (эта салфетка до сих пор хранится у той самой — молодой — старухи):
«Миленький папочка и милая моя крохотулька Юрек я так изнервничалась вся из-за вас что уговорила моего генерала по пути в Париж заглянуть в Варшаву но вас мы дома не застали отчего все мое существо разрывается я рыдаю хотя надеюсь что возвращаясь из Парижа опять наведаюсь к вам а пока бессчетное число раз целую моих бесценных папочку и крохотульку Юрека».
Внизу под этими словами Веронка пунцовой губной помадой изобразила три сердечка, причем одно из них повыше, над двумя другими, и все их соединила рисунком мотоциклетного руля, так что то сердце, верхнее, обведенное кружочком, стало как бы мотоциклетной фарой.
После этого Веронка прошла со своим генералом к поджидавшему их белому открытому автомобилю с иностранным флажком на радиаторе, с шофером-негром за рулем, и они укатили.
Наверно, прямо туда, в Париж.
1986
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗВУКА И СУТИ
О прозе Эрнста Сафонова
Судьба всегда больше человека. Она начинается задолго до рождения каждого из нас. Немыслимым образом изгибается пространство, спрессовывается или растягивается время, — и все для того, чтобы именно в этом месте и в этот час встретились двое, которым уже с у ж д е н о дать жизнь, наделить судьбою третьего.
Но судьба больше человека еще и потому, что не завершается с его смертью, а продолжается, пока хотя бы одна душа сохраняет память о нем, пока хотя бы в одном теле живут те же клетки, те же гены, — зерна рода.
Она непостижима, но постигаема. И каждый серьезный писатель рано или поздно приходит к необходимости размышлений о ней — через осмысление жизни духа человеческого, таинственных движений души, — всего того, что возвышает нас над бытом, образуя и круг, и свод нравственного бытия. Это — в традициях российской словесности.
Высокая обязанность отечественной литературы поддерживать уже сам по себе у р о в е н ь (и этический, и философский, и художественный) таких поисков, размышлений, суждений характерна и для творчества Эрнста Сафонова. Наиболее ярко, может быть, даже предельно явно (в смысле именно предела психологического проникновения) это воплощено в одном из лучших, на мой взгляд, рассказов прозаика — «Лестница в небо».
Да и в других произведениях тоже, и, наверное, не в меньшей степени, — тут достаточно внимательно перечитать хотя бы книги «Под высоким небом», «Мгновения жизни», «Прожитый день» и другие или такие конкретные произведения, как «Осень за выжженными буграми…», «Старая дорога», «Дети, в школу собирайтесь!..», «Прожитый день»… Но именно «Лестница в небо» дает и повод, и основания говорить о своего рода новом качестве прозы, не отметающей, не отрицающей, как это порою бывает, накопленного и созданного ранее, а как раз органично продолжающей предшествующее: так на сочном стебле появляются все новые листья, однако ж затем, на самой маковке, распускается и цветок, чтобы, в свою очередь, превратиться со временем в целую кладовую семян — новых будущих стеблей.
…Надеюсь, и читатель, и автор «Избранного» с пониманием отнесутся к тому, что разговор начат не с биографических подробностей (военное детство, работа в газете, общественная деятельность) и даже не с хронологии творчества (какие книги и когда выпущены). По сей день пребывая в полной уверенности, что не только внутренняя, духовная жизнь писателя, но даже и вехи его внешней биографии всегда находят отражение в произведениях, из книг узнаю об их авторах гораздо больше, чем из самых подробных биографических справок. Поэтому и говорю в первую очередь о них — о книгах, ибо убежден, что именно они являются и формой, и способом существования писателя, — тем единственным, по чему сейчас и потом будут судить о нем.
Эрнст Сафонов выпустил немало книг, и эта, которую вы держите в руках, — в известной мере итоговая, но далеко не последняя из написанных и изданных. Такая же мысль появится, вероятно, и у тех, кто видел снятый по его повести художественный фильм «Не забудь оглянуться»! — одно из интереснейших и глубоких произведений о трагедии человека, вернувшегося с афганской войны. По всем внешним меркам и критериям подпадающий под литературное определение «представитель поколения «сорокалетних», он, именно как прозаик, все же избежал «обойменной» участи, — когда фамилия к месту и не к месту упоминается в одном и том же плотном, словно зазубренном ряду. Да, о нем писали и говорили, его книги не оставались незамеченными, вызывали интерес и у читающей публики, и в литературной среде; но говорили о н е м, а не об «одном из литературной генерации». И это ценно. Не потому, конечно, что прочие «сорокалетние» хуже, — нет, их имена давно и по праву на слуху; а потому ценно, для меня, в частности, что это — индивидуальный путь и к читателю, и к известности, и к признанию. Не в обиду другим, я именую подобное «ненасильственным путем в искусстве», — другого, в сущности, и нет, если привлечь такую категорию, как время.
Именно на этой стезе мы практически не встречаем конъюнктурных, в угоду моменту написанных книг. Ибо не могут быть конъюнктурными жизнь и смерть, добро и зло, любовь и ненависть, — категории, размышлять о которых критику позволяют только произведения определенного философского, художественного уровня.
Может быть, и по этой причине тоже, начиная говорить о прозе Эрнста Сафонова, первым словом избрал я слово «судьба». Это слово — одно из ключевых в творчестве прозаика, читаем ли мы его книги «Мужчины», «Дождь в пригоршнях», «Деревенская история», «Личная жизнь», «Казенные люди» или все тот же рассказ «Лестница в небо».
Что для него и его героев судьба — несвобода выбора? предопределенность? темная сила, с которою нет смысла состязаться?
Или то, чем были Мойры для греков и Парки для римлян?
Или слепой фатум?
Или же всеобщая справедливость, которой нет дела до имени каждого из нас и которая следит лишь за чашами весов, чтобы возмездие соответствовало содеянному?
Не исключая перечисленного, все же для героев Эрнста Сафонова судьба — одновременно и нечто иное, в чем совмещены, пересечены сферы небесного предопределения и земного бытия, свободы воли, но и — несвободы действий; ибо у них, у этих героев, чрезвычайно развито не только «чувство эстетического стыда» (Л. Толстой), но и чувство этической сообразности.
Впрочем, почти об этом же, но с привлечением конкретного примера, ясно написал и сам Э. Сафонов: «Первые годы моего детства пришлись на войну, я вырастал, можно сказать, на ней — на ее жутких дорогах, через унижение страхом и голодом и через осознание всесильности человеческого добра. Нет маленького добра, нет большого, есть человек, живущий п о п р а в д е, и он всегда сурово, справедливо добр. Такого человека, смею надеяться, можно найти в моих рассказах и повестях. Он мне близок».