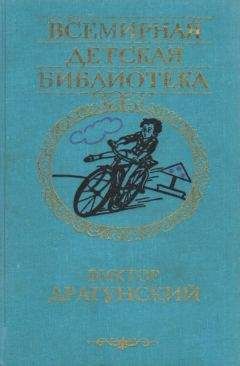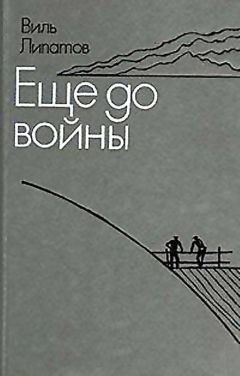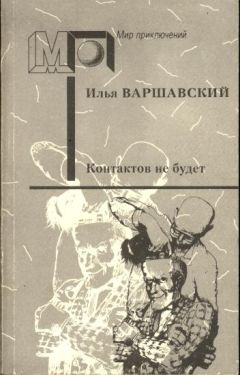Эрнст Сафонов - Избранное
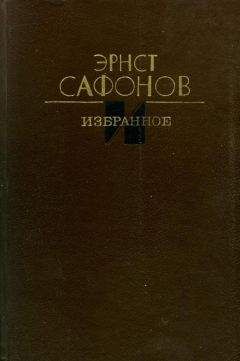
Обзор книги Эрнст Сафонов - Избранное
Избранное
Памяти
Ларисы Тиграновны
МЕЛИК-НУБАРОВОЙ
В НАШЕМ ДОМЕ ФАШИСТ
Автобиографическая повесть
Скованная морозами земля лежала без снега — гулкая и чужая, а ветры дули злобные, разбойной силы; они сдирали с дорог и взгорков серую, жгучую, как стеклянная крошка, пыль, от которой невыносимо резало в глазах.
Правда, глаза у Васи заболели раньше, может, весной или летом, еще там, посреди сырых, комариных болот, где жил он, единственный мальчик, возле больших людей и оружия, и партизанском шалаше. Глаза припухли, сочились слезой, а красные, затяжелевшие веки все время, не отпуская, пощипывало, и от всего этого казалось: назойливые мухи, не желая улетать, мельтешат перед носом.
Он со многим свыкся в свои шесть лет — со стрельбой, стоном раненых, руганью и ласковой участливостью, которую проявляли к нему взрослые, еще с голодом: нет хлеба — ищи чернику, выкапывай сладковатые коренья, а то лежи, подтянув колени к животу, лежи недвижно и терпеливо, дожидаясь, когда придет сон, согревающий и обманывающий.
Он выносливо шел длинные километры с безоружным партизаном дедом Евстигнеем, подслеповато смотрел на дорожную бесконечность: на голых полях, истерзанных сухими холодами и танковыми гусеницами, было продолжение той невеселой жизни, в которой он существовал.
Так и шли они, старый и малый, не досаждая друг другу разговором и жалобами, пока не оказались в удобной для них смоленской деревушке о пятнадцать — двадцать темных изб, свободно расположившихся в окружении недальнего леса.
— Теперь улыбайся, — сказал дед Евстигней, — такая у тебя, Васютка, сиротская доля.
Дед долго стучал в дверь обычной, как и прочие, избы, и, поскольку было к ночи, темно, им долго не отворяли, выспрашивая, кто такие да зачем. А впустили, горела тут, оказывается, керосиновая лампа, пахло вкусной едой, чистой кошкой; она, кошка, ласковая, расписанная под тигра, сразу же ткнулась Васе в ноги, не испугавшись рваной его обувки, и он было нагнулся погладить ее, но только мальчик постарше на самую малость, вывернувшись из-за матери, дернул кошку за хвост, утянул к себе.
— Бестолочь ты, Серафим! — Мать дала сыну небольной подзатыльник, а взгляд, тревожный, выжидающий, попеременно цеплялся то за Васю, то за деда Евстигнея. — Вот-вот котиться будет кошка-то, а ты зашпынял ее…
Была женщина немолодой и нестарой, как и надлежит быть хозяйке дома, у которой сын малолеток есть и дочь почти взрослая, лет шестнадцати, на которой все здесь в смутную нору держится, а мужа увела война. Великая озабоченность чувствовалась в женщине, и от этого — притаившееся недовольство поздним стуком в дверь, поздним приходом странников.
А дочь — ее звали Наташей, Натальей, попросту Талей, — ласковая и очень самостоятельная, проворными руками стягивала с иззябшегося Васи его пальтишко на рыбьем меху; она дышала на скрюченные, занемевшие Васины пальцы, и горячая щекочущая истома вливалась в его маленькое, равнодушное и притерпевшееся тело; он снова пригляделся к толстой кошке Мальве, ее волшебным зеленым глазам, увидел жадное любопытство Серафима и как на беленой русской печи колышутся спокойные тени (самая лохматая от деда Евстигнея), увидел и заставил себя вслух вспомнить хорошее слово: «Спасибо».
В этот вечер не скоро растаяли в нем пройденные черные поля, захлестанные ветрами; даже когда он, накормленный щами и кашей, прикрытый шубой, лежал на лавке, чудилась ему все та же бесконечность дороги, вздыхал, дивя хозяйку этими странными, стариковскими вздохами; и ноги его неспокойно вздрагивали — им же, знал он, надо идти, куда-то идти… Вот на рассвете дед Евстигней разбудит его, погонит, сонного, на улицу, в стылую мглу, за чужую поветь или чужую стену («Облегчись, Васятка, перед путем-то…»), и зашагают они одинокими человеками.
Мурлыкала возле Мальва. Серафим обиженно сопел: не понял его пришлый Васька, для себя, что ли, вытащил он из-под кровати ящик собственных богатств, для себя, что ли, разбросал по полу стреляные охотничьи гильзы, оловянных солдатиков, пугач, вырезанные цветные картинки, на которых вожди и герои в военной форме с орденами… Через слипающиеся глаза до Васи мутно доходили изображения героев; неохотно вбирал он и шепот, доносившийся от стола, — деда Евстигнея и тети Сани.
— Он живой мальчик, — говорил дед, — неотогретый, послушный…
Кажется, как всегда, до света будил его дед Евстигней, что-то нашептывал ему, гладил по голове, и он слушал. А проснулся — ничего не запомнил из того, что было сказано дедом, и деда самого уже не было в избе. Ушел тот один.
IIМальва прыгала с лавки, будто шлепалась, — худым мячиком; тут же заведенно, не сбиваясь, начинали выстукивать маятником настенные ходики, а тетя Саня гремела заслонкой у печки, — он просыпался. Повторялось так уже не одно утро; и надо было привыкнуть ко всему теплому и чужому для него. И к тому, что тетя Саня, услышав, как возится он под шубой, подходила, властно, крепко прижимая смоченную лекарством тряпочку, протирала ему глаза. За потными оконными стеклами рождалась для него синева нового дня, но хотелось снова смежить веки: пусть отойдет тетя Саня, унесет от его лица свое лицо, мягкое и спрашивающее. Всякий раз при этом он хотел что-нибудь сказать тете Сане, было обидно и неловко оттого, что не знал, о чем же нужно сказать…
В прогретой обширной избе, разделенной перегородкой на две половины — кухню и «горницу», можно было жить, не уставая. Можно было сидеть, ходить, думать, лежать, гладить кошку, рассматривать затейливые сучки на потолочных балках, рассматривать фотографии, зарамленные на стене. С фотографий охотно улыбались бодрые мужчины и женщины — иные с цветами и гармониками в руках; сердито хмурился с одной из них несердитый старик, похожий на деда Евстигнея, и много кого еще было тут, даже глупые голенькие младенцы имелись. Когда-то, наверно, они все помещались в этой избе: то-то шумели весело! А сейчас пытался шуметь один Серафим, мелкий пакостник и выдумщик.
— Ты, Васька, — говорил он, — целый год без роздыху ревел, потому и гляделки краснучие!
Он ничего не ответил Серафиму, а тете Сане на вопрос, помнит ли, как заболели глаза, соврал, чтоб только не молчать:
— Костры жгли. От дыма.
Серафим, жмурясь, в сладком ожидании разевая лягушачий рот, подбивал: пойдем да пойдем посмотрим, где мать в сарае схоронила банку с медом, — очень интересно она прячет… Он наконец пошел за Серафимом — не из-за меда, только узнать, что в сарае делается.
В полутемном сарае водились мыши — мышеловка на полу стояла; висели душистые березовые веники, было несколько пузатых кадок с ржавыми обручами, и в углу ящик с изношенной обувью. Пол-литровую банку с медом Серафим натренированным нюхом обнаружил в пыльном валенке; открыл ее, сунулся пальцем: «Сперва ты лизнешь, потом я…» Но тут заскрипела дверь, тетя Саня возникла в ней, загородив выход; банка выпала из рук Серафима, и он принялся угрюмо растирать разлившийся мед ногой. Стоял, нагнув голову, и шаркал подошвой по медовой луже.
— Вредитель, — сказала тетя Саня.
Васе показалось, что она сейчас заплачет. Нет, подвинулась к обмякшему Серафиму и ударила его веревкой по спине. Разошлась — била больно, в запале: Серафим побелел. А затихла — села на приступку, сгорюнилась.
— И меня, — встал перед ней Вася, — бейте.
Вот когда заплакала тетя Саня; большие это были слезы. Сквозь них жаловалась она на сломанную судьбу, поминала бога и отцов, которых уже не сыскать для детей, проклинала войну — и слезы текли по пальцам, зажимавшим лицо. Серафим, надутый, подготовленный к реву, украдкой облизывал банку. Вася, стараясь быть незаметным, выскользнул на улицу, пересек промерзшую дорогу, сел на гору сваленных жердей.
Было зябко — пальто осталось в избе; черные вороны, поджимая лапы, нахохлившись, ходили возле; простиралась темная даль, призакрытая лесом. Он страдал оттого, что скованная бесснежьем земля не оставляет следов, — знал бы, в какую сторону направился дед Евстигней; и не понимал, почему тому не захотелось странствовать с ним, таким вот мальчиком, н а с о в с е м.
Он закоченел, но побродить или там попрыгать упрямо отказывал себе. И не видел, как бежала к нему Таля, а за ней аккуратно и бережно кошка Мальва бежала; Таля схватила его на руки и понесла в избу.
— Ох и дурачок! — всхлипнула тетя Саня и напоила его горячим чаем с малиновым вареньем.
IIIТале было не по себе — скучно, может быть, или еще чего похуже. Он догадывался об этом.
Таля садилась на лавку и смотрела в окно на первую снежную крупу, та кружилась, подгоняемая ветром. Она в окно смотрела, но мимо. На улице — это само собой, а в ней свое — тоже само собой.