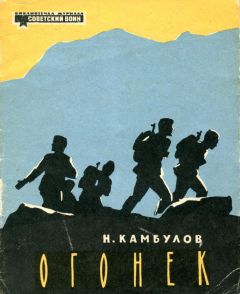Николай Камбулов - Беспокойство
— Коля! Ми-ха-лыч! — наконец отозвалась Любаша. Ей было хорошо: Михалычу двадцать три года, она называет его так потому, что он при этом чудно опускает взор и, чуть скосив рот, шепчет: «Михалыч?.. Так ведь пожилых людей кличут. Разве я выгляжу пожилым?» У нее замирало сердце при взгляде на него: так уж он был мил ей и приятен, этот лейтенант-пограничник, недавно ставший ей мужем. Она очень любила его.
— Михалыч!
Он вынырнул из зеленой пены, обнял до приятной боли, сказал:
— Разве от человека границы можно спрятаться? Завязывай глаза, и я выведу тебя из лесу, приведу на заставу.
— Смотри, Коля, — показала она на птичку, недоверчиво поглядывающую на них с ветки.
— Что такое?
— Да вот она, смотри сюда. Грудка беленькая, а крылышки с подпалинкой.
Он повернулся. Птичка вспорхнула, вновь тревожно заметалась между деревьями.
— Рядом ее гнездо. Сейчас найду.
И он нашел. Среди малюсеньких серых комочков с желтыми клювиками лежало яйцо, забрызганное зеленоватыми конопушками.
— Оно дышит, — прошептала Любаша.
— Птенец вылупляется.
Любаша прижалась к Николаю, думая: «Вот так и у нас будет, Михалыч». Он, словно поняв ее мысли и состояние, качнул головой:
— А как же-шь…
Скорлупка лопнула, и сквозь отверстие сначала показался серый клювик, потом головка. Глазенки, подернутые водянистой пленкой, удивленно помигали и вдруг замерли: казалось, что птенец раздумывает — выходить ему из своего уютного домика или нет, как встретит его незнакомый ему мир. Новорожденный все же разрушил скорлупу. Он оказался значительно крупнее своих братьев, крохотных живых комочков. Хоть вид его и был безобразен, но Любаша промолвила:
— Бедненький, — и еще плотнее прижалась к мужу.
Птичка приумолкла или улетела прочь. «Бедненький», широко раскрыв клюв, покружил головкой, подполз к братьям. И тут случилось невероятное: орудуя своими почти голыми крылышками, он начал по одному теснить своих братцев к краю гнезда и сбрасывать вниз. Любаша замерла, вскрикнула было, но муж приложил палец к губам:
— Тс-с, смотри, что дальше будет.
Очистив гнездо, «бедненький» опять открыл клюв, красноватый и широкий, издал писк.
Прилетела мама. Всунув свою маленькую головку в его раскрытый рот, она покормила его чем-то. Тот, проглотив пищу, еще шире распахнул клюв. Птичка полетела за кормом.
— Кукушонок! Чужого принимает за своего птенца, — сказал Николай, и его брови почему-то насупились. Любаше стало не по себе. Птенец пищал, крутил головой. Она смотрела на него, и теперь уже не было тех томительно-радостных чувств, которыми она была охвачена, когда смотрела на рождение птенца. Стало вдруг душно. Любаша покачнулась. «Что же он стоит, я сейчас упаду…»
— Коля!.. Помоги…
И леса не было, и Николая Михайловича не было. Страшно билось сердце. На лице, под руками — липкий пот.
— Господи, и приснится же такое!
Любовь Ивановна встала с постели. Взглянула на часы, удивилась, что муж ушел на работу и не разбудил ее — раньше он так не поступал. «Чего уж тут, теперь я не одна», — подумала она о сыне. Дверь в комнату, в которой спал Сережа, была закрыта. Она тихонько приоткрыла дверь: он уже был одет и держал в руках газету.
— Ты кричала… мама?
Она подошла молча к нему, хотела было прижать к груди, но не посмела, лишь развела руками и опустила их.
— Мне послышалось, будто кто-то кричит: помогите!
— Это, наверное, все заграница бродит в твоих мыслях, — сказала она и, покраснев, подумала: «Что ж я таюсь перед ним, неправду говорю. Ой, нехорошо, нехорошо».
Он свернул газету, положил ее в карман.
— Анюта скоро приедет?.. Мне хочется за косички ее подергать… «Слушай боевой приказ на охрану и оборону государственной границы СССР!»
Ей стало немного легче.
— А ведь не забыл. И стихи помнишь?
— Помню.
И продекламировал:
Слушай маму, слушай папу
И Анюту тоже…
Двойки, тройки получать
Не к лицу Сереже.
— Разве я плохо учился?
— Нет, конечно. Это тебе Сидоренко написал как бы напутствие.
— Понимаю.
Он вновь напомнил об Анюте.
— Оказывается, муж у нее в дальнем плавании, а Наташеньку в больницу положили. Вчера телеграмму получили, прочитай, у отца на столе.
— Ах, как жаль, — сказал он, прочтя телеграмму. — Наташа-то моя племянница… Оказывается, я уже дядя. Вот так Анюта!
— Боюсь я за Наташеньку… Может, ты поговоришь с отцом, чтобы он отпустил меня. Двенадцать часов — и я во Владивостоке. Понимаешь, он не отпускает меня, отец-то. А тебя послушается.
— А сердечко? — Слово «сердечко» он выговорил с нажимом, с подчеркнутой четкостью. — Сердечко выдержит?
— Ничего со мной не случится, я уже летала. Там, в воздухе, мне даже легче, чем на земле.
— Хорошо. Папа собирается повезти меня в катакомбы, в пути я и поговорю. Согласится.
Он любил завтракать в кухне, и Любовь Ивановна знала почему: из окна кухни видна калитка соседского двора. Как только Фрося покажется, он заспешит к ней. Самурайка вскружила ему голову, но это еще ничего, дивчина она видная, слюбятся по-настоящему — будет хорошо, но Фрося заразила его своим цирком, и теперь он мечтает стать наездником: «Алле-е! Оп-па-а, оп-па-а!»
— Ну какой из тебя наездник, — сказала Любовь Ивановна таким тоном, чтобы он не обиделся. — Шел бы ты в вечернюю школу, окончил бы десятилетку — и в институт.
— Вчера был в военкомате. Спросили: «Паспорт получил?» Получил, говорю. «Готовься, говорят. На следующий год в армию возьмем». Если в цирк попаду, броня мне обеспечена.
— Армия только на пользу…
— Не-ет. — Рот его раскрылся, и она вздрогнула: кукушонок не выходил у нее из головы. «Боже, до чего же дурной сон!»
— Не-ет, мама… Я же говорил, в приюте нас здорово дрессировали по верховой езде. За малейшую ошибку: «Мери, плетка драть буду!» И еще как пороли…
— Не надо, не надо об этом… Я не против цирка, если по душе — иди.
С улицы послышался резкий свист.
Любовь Ивановна улыбнулась:
— Иди, зовет.
Он поднялся. Стоя у стола, о чем-то задумался. Брови, чуть приподнятый нос, мягкие линии губ так напоминали семилетнего Сережу, что она невольно затрепетала в душе.
— Иди, иди, сердитка ты эдакий.
Он бросился к ней и, поцеловав в щеку, произнес:
— Мама, все будет в ажуре. Гуд бай!
— К обеду вернешься?
В ответ он помахал двадцатипятирублевкой и закрыл за собой дверь.
Деньги дал ему Николай Михайлович. «Отец, отец, как бы мы его не испортили деньгами», — призадумалась Любовь Ивановна. Кукушонок опять представился с открытым зевом, а маленькая головка птички в клюве кукушонка, хвостик подергивается от счастья кормления детеныша. «А свои-то лежат, выброшенные из гнезда. Разбились… Кормит чужого, не зная о том».
— Фу-ты, привязался этот сон!
Глава пятая
— Ари! Дзин, дзи-ин…
Мальчишка улыбается. Конечно, он улыбается потому, что Сергей за эти два месяца сумел постичь много слов, фраз и предложений, и теперь они понимают друг друга.
Ари — это пчела, так зовут мальчишку. Теперь не то, что было там, в зимней избушке чабанов, когда они изъяснялись больше жестами, хотя Ари знал десятка два русских слов.
— Алмэк! — Сергею нравится, что Ари так называет его: алмэк — это брат.
— Хорошо, хорошо, алмэк Ари…
— Хорьёшо, хорьёшо, алмэк Серга…
Теперь вроде бы и хорошо… У Ари на окраине небольшого города, среди жалких лачужек, свой дом — хатенка, по оконце вошедшая в землю и покрытая старыми кусками толя. Собственно, эта развалюшка принадлежит не ему, а старшему брату Али Махамеду, который работает в столичном городе дворником. Уезжая три года назад в столицу, Али определил его подпаском в горные пастбища. Чабан, у которого работал Ари, оказался на редкость жестоким и хитрым. Он быстро выдвинулся: хозяин пастбищ сделал его своим помощником по водным источникам. А тот в свою очередь прибрал к рукам Ари, назначил его водоносом.
— Хорьёшо!.. Сенден рэзи олсун…[1]
В зарослях, когда убежал Венке, Ари долго не решался приблизиться к Сергею. Его лицо выражало доверчивость и боязнь.
— Аллах!.. Аллах! — шептал он, скаля белозубый рот.
— Иди сюда. Не бойся. Я твоему господину еще покажу, как издеваться над людьми. Иди, иди.
— Америкел?
Сергей понял: мальчишка принимает его за американца.
— Нет! — тряхнул он головой.
— Элдетмак…[2]
Не зная этого слова, Сергей опять сказал:
— Нет!
— Элмен? Немес?
И все же мальчишка подполз.
— Аллах! Аллах! — глядел Ари на Сергея как на бога. Когда стемнело, он взял его за руку и, что-то умоляюще шепча, повел к избушке. Утром Ари отыскал в избушке кусок брынзы и лепешку, завернутые в тряпицу. Целый день он, что-то лопоча, взволнованно и горячо жестикулируя, пытался объяснить Сергею. Наконец Сергей догадался: в горах кого-то ищут и оставаться им здесь опасно, необходимо отсюда уйти. Но куда? Ари, показывая на себя и на Сергея, шептал: «Эркедэч… эркедэч… товарьич… алмэк Ари» — и тыкал в грудь Сергею. Товарищ!.. И Сергей доверился: «Наверное, не подведет». Хотел сказать, что он, Сергей, — русский, но не посмел, лишь качнул головой: «Согласен, веди».