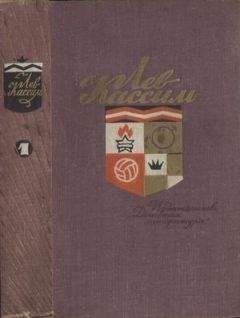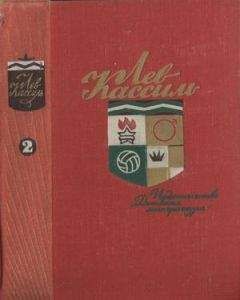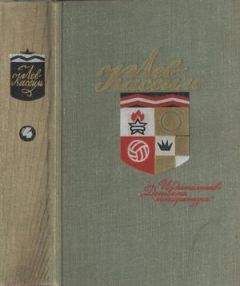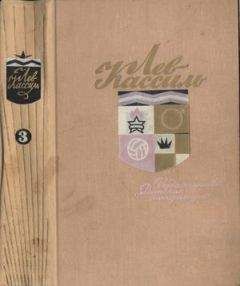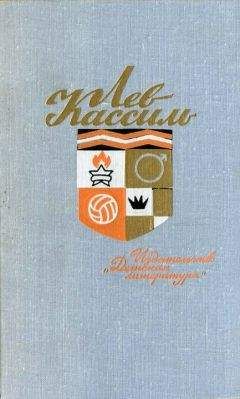Лев Кассиль - Том 5. Ранний восход. Маяковский – сам
Как она хохотала! «Сапог? Один сапог?.. Помните, у Горького в воспоминаниях о Толстом есть, как он рассказывал Льву Николаевичу свой сон про пустые валенки, которые шли без человека по дороге. Вот видите, это не только присниться может».
За каждое дело Вера Игнатьевна бралась со всей силой своего таланта, со всей горячностью своего большого сердца. Она очень дружила с профессором Н. Н. Качаловым и увлеченно совместно с ним работала над внедрением в наш быт и строительство декоративного стекла; ездила на заводы, спорила с учеными и производственниками. Она всегда мыслила масштабами крупными, решала любую задачу широко и по-новому. Большому, взволнованному искусству она навсегда и беззаветно отдала руку мастера и сердце художника.
В последний раз я видел ее, когда она лежала в постели, с которой ей уже не пришлось подняться. Мы знали, что Мухина безнадежно больна. Сидели возле нее, стараясь развлечь всякими пустяками, несущественной болтовней. Но с трудом сдержал я в себе горестный ужас, когда взял, чтобы поцеловать на прощание, ее уже совершенно бесплотную, чудовищно исхудавшую руку, которая еще недавно справлялась властно с глыбами мрамора. Сердце ее, не сердце художника, а обыкновенное сердце больного человека, уже отказывалось работать.
И, как никогда, испытал я нестерпимую обиду: до чего ж это несправедливо, что даже самому могучему художнику не дано придать собственному, человеческому, физическому естеству своему хотя бы долю той бессмертной прочности, которая сохранит на веки творения, созданные его руками и сердцем.
«Глядельца» в незабываемое
О каждой из таких сцен и встреч можно, вероятно, написать целую книгу… Какой неисчерпаемый и благодарный материал дает нам, писателям, необозримая, взволнованная, полная ошеломляющей нови действительность наша!
Уже более тридцати лет мне с моими товарищами-писателями доверяют почетный радиопост у микрофона на Красной площади в дни всенародных праздников. Через этот микрофон мы рассказываем стране и всему миру о праздниках Октябрьской годовщины и Первого мая, о физкультурных парадах – чудесных смотрах полнокровной нашей молодости.
Ведь каждый праздник на Красной площади, каждое ликующее шествие трудовых колонн Москвы – это словно «глядельце», как говорят уральцы, через которое видно, как идет в горе слой за слоем, пласт за пластом драгоценная руда – неиссякаемые сокровища, которые открываются в недрах народной жизни.
Здесь, на Красной площади, встречали мы вернувшихся из ледового плена героев челюскинцев. Мы прощались тут навсегда со славнейшими борцами революции, деятелями Советского государства, чьи доблестные имена начертаны на кремлевской стене и на плитах возле нее.
Здесь в самые страшные для Родины дни, осенью 1941 года, состоялся полный сурового величия парад, участники которого, сменив торжественный марш на походный, прямо с Красной площади ушли на боевые рубежи под Москвой, чтобы остановить рвавшегося в нашу столицу врага, а затем отбросить его прочь от Москвы.
Мы видели тут незабываемый, полный могучего народного ликования Парад Победы, боевые знамена наших полков, овеянные светоносной, неслыханной в истории славой. И здесь перед нами бесславно падали на брусчатку поверженные штандарты фашизма, имевшего за четыре года до того наглость громогласно заявить, что с этими паучьими крестовинами он пройдет парадом по нашей Красной площади…
А впоследствии мы встречали и славили здесь человека, который первым из обитателей планеты совершил космический облет Земли, – первенца в семье наших «звездных братьев».
Листаешь полусклеившийся, запятнанный глинистыми брызгами плывунов блокнот, с которым спускался в шахтной клети и по мокрым скобам металлических лестниц в недра московской почвы, туда, где сегодня ослепительно сверкают лампионы мраморных дворцов и ползут эскалаторы лучшего в мире метрополитена. Вспоминаешь, как иногда улицы Москвы распарывались во всю длину, и нам открывалось продольное сечение грандиозного строительства… Как пульсировали шланги, частили компрессоры под ногами москвичей, как вылезали из шахт на улицу юноши и девушки, комсомольцы-метростроители в заляпанных глиной, стоящих коробом комбинезонах, как шагали они по улицам Москвы походкой завоевателей, дружно и твердо ступая по земле, которую знали теперь с лица и с изнанки. По ночам город, казалось, переходил в их полное распоряжение. Открывались ворота в дощатых заборах, трамвайные поезда, грузовики громыхали в качающемся свете фонарей…
Я помню одну из первых шахт. Это было в Охотном ряду, около места, где сейчас поднялись к небу этажи грандиозной гостиницы «Москва». Тогда внизу было пройдено лишь четыре метра туннеля. Туннель был еще слеп. Это был тупик. Сверху лило и капало. Со всех сторон была глухая, казавшаяся непробиваемой первобытная толща земли.
И десятки тысяч людей запомнили, как однажды в ясный сентябрьский день, в перерыве между первым и вторым таймами большого международного футбольного матча, в веселый гул стадиона «Динамо» ворвался металлический голос рупоров: «Начальников шахт одиннадцатой и двенадцатой-бис просят немедленно выйти к Северным воротам стадиона…» И на секунду разом приостановилось пятьдесят тысяч дыханий… На нас как будто пахнуло сыроватой и душной гарью подземной катастрофы. Весь стадион понял это и тревожно загудел.
И верно, как нам сказали потом, в шахте близ площади Дзержинского вспыхнул пожар. Но мы узнали вскоре же, как самоотверженно и героически справились с бедой рабочие и инженеры Метростроя.
И каким непостижимым волшебством показалась мне через год с лишним, после того как я опускался в первую шахту Метростроя, поездка в самом первом поезде московского метро, первый пробный сквозной рейс в новеньком, сверкающем вагоне по анфиладе подземных сверкающих залов – от Сокольников до Парка культуры!
Надолго запомнилось, как с группой писателей мы совершали удивительное плавание по водным ступеням возвышенности, еще недавно разделявшей Онежское и Ладожское озера, как плыли мы на одном из первых пароходов, прошедших по только что построенному каналу, который соединил Белое море с Балтикой, внеся, как мы тогда шутили, поправку в географию и превратив Скандинавский полуостров фактически в остров… А вскоре мы уже получили возможность лазить со своими блокнотами и фотоаппаратами по шлюзам и выемкам нового исполинского строительства и вместе с Алексеем Максимовичем Горьким посещать трассу канала, по которому большевики вели Волгу к Москве. А немного позже мы, словно хлебнув самого крепкого вина, радостно пьянели от первого глотка волжской воды, которой мы наполнили доверху наши стаканы под краном обычного домашнего водопровода. Социализм привел Волгу к стенам Кремля.
Немало гордых минут доставили нашему народу, нашей молодежи звонкие победы советских хоккеистов, лыжников, конькобежцев, тяжелоатлетов, футболистов на стадионах, в спортивных залах, на ледовых дорожках и лыжнях мира! Мне, как верному «болельщику» наших спортсменов и как корреспонденту советской печати, не раз доводилось ездить с нашими любимцами по белу свету и самому слышать, как над кручами Доломитовых Альп, Тироля или Сьерры-Невады, над холмами древнего Рима или под тучами, принесенными в Токио тайфуном, над головами многих тысяч зрителей, почтительно вставших со своих мест на стадионе, гремит советский гимн, и видеть, как взвивается в чужое далекое небо алый флаг нашей Родины в честь очередной победы чемпиона из СССР.
А сколько заметок, записей хранится во фронтовых корреспондентских блокнотах! Об этом надо было бы говорить особо. Это отдельная, ни с чем не сравнимая по своему материалу эпическая глава повести о нашей жизни.
Сколько пометок и памяток в походных записных книжках, оставшихся с тех трудных лет. Вот лишь одна из них.
«1942 год. Рыбачий полуостров. Заполярье. Край света… Дальше до самого полюса уже море, льды…
Самый северный фланг великого фронта войны. Вот отсюда, от Баренцева моря, он идет до берегов Черного.
Хребет Муста-Тунтури. Н-ский погранзнак. Единственный на всей западной границе Советского Союза, мимо которого не шагнул на нашу территорию враг. Собственно, самого знака уже нет: сбит пулями. Но на этом месте всегда лежит заметная даже издали пирамидка из пластинок шифера. Ночью туда подползают наши моряки и приводят все в порядок. Противник тут совсем рядом. Все простреливается снайперами. Но моряки Рыбачьего гордятся, что у них, на самом крайнем северном фланге фронта, на их участке государственной границы, фашист шагу не ступил на нашу территорию.
Общий любимец, комиссар Искаир Кужахметов, рассказывает мне: „Понимаешь, такое дело… Там, наверху, передовое охранение – почетный комсомольский пост. Туда идти – в очередь записываются. На три дня идут, чтобы не каждый день сменяться – лишний риск. Понимаешь, какое дело? Место очень опасное. Кого посылать? Трус пойдет – испугаться может. Храбрый пойдет – жалко, потери там большие. Я стал так делать: один храбрый, два труса. Храбрый на труса смотрит – хуже не будет. Трус смотрит на храброго – не убежит. Только, понимаешь, какое дело… Туда уходят – один храбрый, два труса. Да? Один день прошел, второй день прошел, третий… Обратно через три дня приводят – все трое совсем храбрые. Вот, понимаешь, какое дело…“»