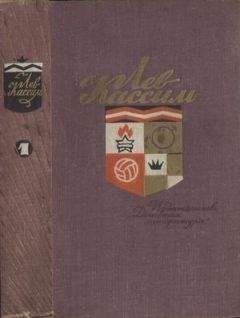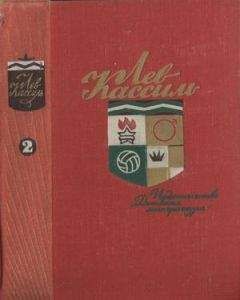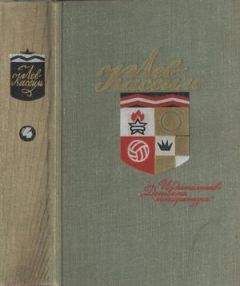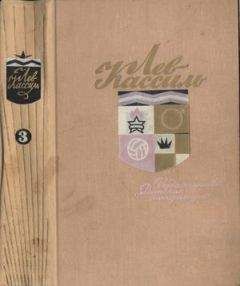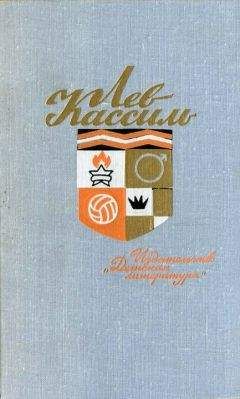Лев Кассиль - Том 5. Ранний восход. Маяковский – сам
В таком духе воспитывали котовцы и своих «коммунят», как называли в коммуне детей. На особом попечении коммунят находился престарелый и знаменитый Орлик, боевой конь Котовского, огромный, золотистой масти, с тавром «2КК» – второй кавалерийский корпус. Отбитый когда-то Григорием Ивановичем в бою у польского офицера, он многие годы носил на себе в сражениях богатырскую фигуру комбрига, не раз вызволяя его из опасности. Коммунары говорили мне, что во всем корпусе не было лошади умнее, надежнее, выносливее Орлика. Он был удивительно неприхотлив в пище: ел сыр, колбасу, а в тяжелые минуты, как уверяли меня котовцы, не брезговал и селедкой. Но эта непривередливость не отражалась на его «манерах», которые служили примером коммунятам: поедая вишню, он деликатно выплевывал косточки.
К комбригу он питал нежнейшую любовь. Котовский никогда не привязывал Орлика, и тот неотступно следовал за хозяином. Однажды Котовский пришел в гости и не закрыл за собой дверь. Через минуту на лестнице – это было во втором этаже – раздался срывающийся топот: сквозь распахнувшуюся дверь в комнату просунулся Орлик и стал за стулом комбрига…
Когда кончилась гражданская война, Котовский поручил израненного четвероногого героя своим бойцам, строившим бессарабскую коммуну. С тех пор Орлик и жил там. Его по-прежнему никогда не привязывали, и он свободно бродил по всей территории коммуны, припадая на раненную в бою ногу, заглядывая в окно кухни, где повар баловал его хлебом… Он был также непременным участником всех пионерских сборов коммунят. И являлся обычно туда не один, так как знаменитого коня уважали не только комму-пята, но и все молодое поголовье конюшни. Забывая матерей, жеребята табунком следовали за Орликом, как за любимой нянькой. И сколько раз, бывало, когда я вел с коммунятами занятия в летнем помещении, которое построили для пионеров, распахивалось внезапно окно со двора и к нам просовывалась крупная голова Орлика с белой звездочкой на лбу… Конь как бы внимательно прислушивался к нашей беседе, а за ним, под подоконником, видны были ласково тыкавшиеся в его золотисто-гнедую шею тоненькие храпы жеребят…
Все в коммуне жило по славным боевым традициям Котовского. Я помню, с каким неколебимым мужеством держалась в ту неспокойную весну коммуна имени Котовского, когда вокруг нее бушевало кулацкое восстание, и нам всем, вместе с приехавшими из города коммунистами, в иные ночи приходилось спать гю очереди, держа на всякий случай наган под подушкой… Мы ночевали тогда в одной из комнат бывшего помещичьего «палаца», где висел огромный портрет Григория Ивановича Котовского.
А с ним как-то было уже не страшно…
Вставка в кинофильм «Чапаев»
Василия Ивановича Чапаева я встретил однажды на экране – очень далеко от родины. Всем, конечно, хорошо известен один из лучших фильмов мировой кинематографии – «Чапаев». Как и все вы, я видел его десятки раз и вполне понимаю тех мальчишек, которые до сих пор готовы снова и снова смотреть картину, сохраняя в душе робкую надежду, что, быть может, там, в самом конце, когда-нибудь Василий Иванович возьмет да и выплывет, не утонет…
Но раз я видел «Чапаева» хотя и не с такой концовкой, зато с совершенно особенной вставкой. В 1936 году мне довелось совершить рейс в Испанию вместе с моряками теп: дохода «Комсомол», который доставил продовольствие и теплую одежду детям и женщинам Испанской республики, где кипела тогда гражданская война против фашистов. В одном из кинотеатров, расположенном в поселке близ дороги, ведущей из Валенсии в Мадрид, показывали «Чапаева» бойцам пятого полка, которые после киносеанса должны были идти прямо в бой… Люди в зале сидели в полном снаряжении, с винтовками, цветными одеялами и разукрашенными гитарами, без которых ни один уважающий себя испанец не отправляется в поход.
Вы помните, конечно, знаменитую «психическую атаку», когда офицерские, так называемые каппелевские части под сухой цокот барабана парадным строем, цепь за цепью, во весь рост – папиросы в зубах, фуражки набекрень – приближаются к залегшим чапаевцам. Едва каппелевцы появились на экране, зал замер в недоброй тишине. А потом вдруг все разом вскочили, потрясая винтовками и кулаками, яростно вопя: «Долой! Абахо! Карафита!.. К чертям фашистов!.. Вон их, проклятых!.. Хватит у нас своих! Абахо! Долой!..»
И, как это делается в Испании с неудачливым, опозорившимся матадором, куча апельсиновых корок и комков жеваной бумаги полетела в экран, где продолжали шагать каппелевцы.
Вспыхнул свет в зале. Перед экраном появился хозяин кинотеатра, маленький, коренастый человек в берете, сдвинутом на правое ухо, с сигаретой за левым, с добрым десятком значков народного фронта, расположенных на его куртке от подмышки до подмышки.
– Камарадос! Компаньерос! Товарищи! – сказал он хрипловатым, умоляющим голосом. – Уна моменто! Потерпите минуточку! Их сейчас всех убьют. Клянусь вам. Я уже видел эту картину. Их убьют. Неужели вы не можете потерпеть?
Ему обещали потерпеть. Сеанс продолжался. Но как только наша Анка-пулеметчица на экране хлестнула огненной струей из своего пулемета по белогвардейцам, зал вскочил снова. Слышали бы вы только, какая овация сотрясала кинотеатр! Крики: «Вива Руссия!» «Вива мухера Русса!» – то есть «Да здравствует советская женщина!» – заглушили пальбу, гремевшую на экране. И тут я увидел на нем кадр, которого, как я твердо помнил, никогда прежде в «Чапаеве» не было. Над удиравшими белогвардейцами, над горизонтом появился ритмично взлетавший силуэт женской фигуры, отчаянно размахивавшей руками… Я растерянно оглянулся и увидел, что вскочившие позади меня бойцы-испанцы восторженно качают в луче света из кинобудки нашу корабельную уборщицу Таню Бацманову… Они качали ее как представительницу доблестных советских женщин и соотечественницу храброй Анки, чапаевской пулеметчицы…
Деревцо у школы
Да, Чапаева я видел только на экране…
А вот с одной из самых почитаемых и любимейших героинь нашего народа я встретился непосредственно, но еще не знал тогда, с кем говорю…
И в корреспондентском блокноте, в записях, которые я сделал тогда, нет ее имени, известного теперь всей молодежи земли.
В июне 1941 года я по заданию «Правды» поехал в 201-ю московскую школу.
В тот день ученики 9-го класса «А» вместе с директором школы хлопотали на пришкольном участке, сажая свой сад.
Девушка с серьезными и внимательными глазами, миловидная, с нежным и немножко мальчишеским овалом тонкого лица, показала мне только что посаженную ею липку, третью с края. И мы с ней поговорили задушевно о том, как это здорово, что вот, допустим, посадят ребята, поступив в школу, своими руками деревцо… ну, скажем, яблоньку… и будет оно расти вместе с тем, кто посадил его. Можно будет ребятам в школьные дни, во время перемен, посещать это деревцо, помогать ему расти, окапывать его. И вот окончишь школу, а твое деревцо уже дает первые плоды… Хорошо!
– Хорошо! – мечтательно повторяла девушка, а потом ее отозвали подруги, и, схватив лопату, она убежала к ним.
Прошло много лет, прежде чем я узнал, как звали девушку, которая сажала при мне деревцо на школьном дворе.
То были годы, когда Москве пришлось прятать свой свет, и синие веки защитных штор смежились на окнах нашего светлоокого города. И уже не липки и клены, а стальные ежи, каменные надолбы вырастали на наших улицах…
Но бомбы, сброшенные фашистами на Москву, не повредили тоненькой липки, которая росла, тянулась вверх на пришкольном участке московской школы № 201, третья с края…
А имя школьницы, которая посадила ту липку, светлое имя молодой москвички, презревшей смерть, вскоре засияло на весь мир.
Как-то раз я взял книжку Любови Тимофеевны Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». И вдруг увидел там строки из своего очерка о школьном саде, напечатанного в «Правде» 19 июня 1941 года. И рядом прочел о том, как Зоя рассказывала дома о моем приезде в школу, о разговоре с ней у посаженного деревца…
Так вот с кем я говорил тогда о яблоньке, за четыре дня до начала войны, во дворе 201-й московской школы…
Я снова вспомнил обо всем этом в летний день 1957 года, когда участники московского фестиваля собрались в Химках для посадки Парка дружбы. Три тысячи молодых деревьев были посажены в этот день руками девушек и юношей, съехавшихся со всех континентов. И, глядя на смуглые, белые, бронзовые, черные руки, которые бережно опускали тонюсенькие стволы липок, березок, кленов в московскую землю, я вспомнил опять серьезную, внимательную девушку, чья липа уже выросла большой во дворе московской школы, теперь носящей имя своей бессмертной ученицы.
А через день после посадки Парка дружбы я видел, как на Манежной площади столицы мать Зои бережно укрывала теплым платком зябкие плечи девушки из Хиросимы…