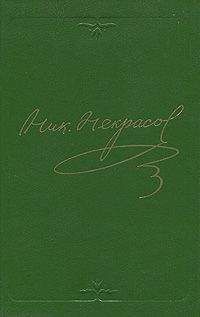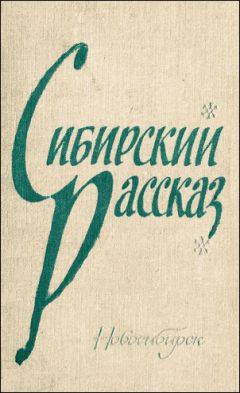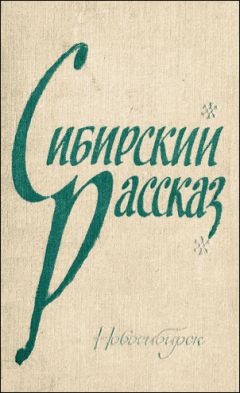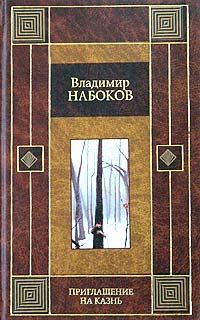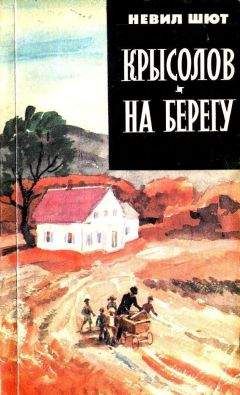Давид Константиновский - Яконур
Солдат, который привез Герасима в детский дом, приезжал потом, после войны, и рассказывал.
Он увидел женщину, бежавшую с ребенком на руках от горящих вагонов; когда самолеты, сделав круг, начали приближаться к ней и пули взрыли сухую пыльную землю совсем рядом с нею, она остановилась, сильней обхватив ребенка руками, прижав его к себе и опустив к нему голову и плечи, чтобы закрыть его сверху; когда пыль закипела вокруг нее, женщина склонилась к земле, все так же прикрывая ребенка головой и плечами, стала на колени и осторожно, медленно, посреди грохота моторов и обстрела, легла на ребенка грудью.
Герасим не помнил ее… Солдат не мог ее описать…
Хотя Герасим пытался в детстве представить ее себе и обращался к ней, как к матери, она продолжала оставаться только отвлеченным образом матери, идеей матери, словом, обозначавшим мать.
Это было несправедливо, дурно, и сейчас он снова ощутил свою вину перед ней, никому не знакомой женщиной, которая, как говорили, была, возможно, его матерью.
Первые пули у ее ног виделись ему когда-то словно первые, крупные капли дождя, — вот они падают в пыль, одна, другая, тяжелые капли, плотные, третья, четвертая, разбрызгивая пыль, сами оставаясь в ней целыми, пятая, шестая; потом он узнал, что это совсем не так…
Не в силах вообразить ее лицо, — он много раз пытался представить себе, что происходило в ее душе. Что она чувствовала? И что думала? Со временем это делалось все более важным.
Желание анализировать не означало черствости. Он не делал это холодно. Это было очень нужно ему, нужно — и разуму, и сердцу. Так она ему помогала; и сейчас — как в детстве…
То, что она сделала, было результатом, по-видимому, не только природного импульса, но и сознательного решения; в то же время, Герасим понимал, соображения, которыми она руководствовалась, были самыми простыми. Естественными. Нельзя представить себе, чтобы их потребовалось кому-либо разъяснять.
Видел ее как бы издали, так, что лица не разобрать, — посреди голой степи.
О себе думал в третьем лице…
То, что она сделала, она сделала не для себя; она не могла не понимать, что едва ли будет наслаждаться ребенком в будущем, хотя бы увидит его. Она не могла не понимать также: то, что она сделала, практически ничего не давало и ребенку; было ничтожно, перед «юнкерсами» над головой, для его спасения; маловероятно было, невероятно, что ее действия изменят что-то в его судьбе и что даже ее смерть будет иметь следствием жизнь ребенка и его будущее. Она просто сделала то, что считала нужным. Доверилась своим уму и сердцу.
Не дожидаясь, когда пройдут «Ю-87», солдат вбежал под огонь и вынес ребенка.
Для него тоже было естественно сделать то, что он сделал.
Еще солдат говорил, что успел перед тем увидеть глаза женщины. Он был человек сдержанный, говорил скупо; к этому, Герасим помнил, возвращался снова и снова. Выражение глаз женщины, которую он не знал прежде, видел впервые и не мог встретить никогда больше, было, значит, для него там, под обстрелом, таким важным; происшедшее между ними в последнюю ее секунду, только между ними, и знали об этом только она да он; выражение глаз умирающей женщины, беспомощный взгляд, не обращенный никому и в то же время только к нему, имел для него ценность сам по себе. Он был, возможно, единственным, кто встретился с ней взглядом; она умирала навсегда… Достаточно было одному из пилотов чуть изменить положение рулей, или стрелку — прицела, или уже летевшей пуле — по любой фантастической причине — траекторию, и каков бы ни был взгляд женщины, что бы ни почувствовал солдат, и что бы он ни сделал, — никто никогда ничего не узнал бы об этом. Все исчезло бы без малейшего следа. И однако для солдата это не было существенным, ибо он не пытался совершить нечто, — он просто хотел защитить ребенка, ребенка женщины. Чувства и соображения солдата не могли уступить ни сознательным аргументам, ни бессознательному страху.
Эти люди обладали тем, что Герасим мог бы назвать безусловностью поведения; у них не было, в этом смысле, проблем выбора, они поступали единственно возможным для них образом; не могли не поступить так и поступали так, как не могли не поступить.
Солдат был недолго и не оставил ни фамилии своей, ни адреса, только обещание приехать еще. Он был немолодой уже человек, деревню его сожгли, семья погибла, сверх того война принесла ему два ранения и контузию, последствия которых также не проходили и, видимо, не смогли пройти. В памяти Герасима остались тихий голос, глаза над русой щетиной, запах табака, шинель…
Таковы были люди, от которых Герасим получил жизнь. Предшествующую родословную он обрел теперь от Элэл.
Осмысление наслаивалось с годами, по мере того как с пониманием себя и других приходило понимание других и себя.
Рядом жили люди, для которых безусловность поведения была непреложной и в большом, и в малом; у них не возникало разрыва между высоким и будничным сознанием. Они руководствовались идеальным в каждодневных соображениях.
Иначе они не могли. Это было для них не правилом, нет; это была внутренняя потребность. Без этого их существование оказывалось невозможным.
Почему надо поступать так, а не иначе? В чем тут смысл?
И где найти опору своим действиям?
Потому что так эффективнее? Нет, не всегда… Привлекательнее? Не довод… Потому что не наказывается?..
Не в том было дело, что плохо быть плохим. И не в том, что плохому — плохо. А в том, чтоб не мог иначе.
Элэл, Яков Фомич… А Валера?
Вдовина поведение Якова Фомича и ребят Элэл всегда, когда он, бывало, пытался применить к ним свой здравый смысл, ставило в тупик. Он заявлял: даже задавшись специально такой целью, ему не придумать ничего более неэффективного, непрактичного. Действия их вызывали у него, признавался Вдовин Герасиму, уважение, случалось, даже зависть; и обязательно — недоумение. Вдовин говорил, что его испытанное знание людей отказывается ему служить… Герасим хорошо помнил, как это озадачивало и его. Вдовин готов был озолотить ребят, сделай они хотя бы ничтожный шаг ему навстречу; почему ребята не хотели поступиться малостью? Почему ушел Яков Фомич, хотя было ясно, что это принесет только вред и делу, и ему самому? Почему современные честолюбивые парни, многообещающе начавшие карьеру, отвергали возможности, которые давались им так легко, и методы, которые были так плодоносны? Что побуждало их предпочесть неудачи? Почему они не могли произвольно изменять свою линию поведения, быть, подобно другим, тактиками, сообразуясь с характером обстоятельств? Какая присяга их обязывала? Какой приз их вознаграждал? Какой не известный Герасиму феномен был столь значительным и привлекательным, что оказывался значительнее и привлекательнее успеха? Что такое особенное, не ведомое Герасиму, он давал им?..
Выходило — это вознаграждение больше того, какое получал Герасим. Выходило, что эти люди, которых так легко было многого лишить, с которыми, казалось, так легко справиться, — обладали неуязвимостью в чем-то большем, чем-то более важном; обладали загадочной, необъяснимой привычным образом, нескончаемой независимостью; у них было то, что невозможно было у них отнять… В конце концов их поведение приходилось описывать большими, гулкими словами; и выходило, что большие, гулкие слова имеют смысл и в каждодневных, будничных поступках, выходило, что этим людям, которых так просто было поставить на край беды, с которыми так легко было справиться, — им ведомо то, что сокрыто в больших, гулких словах; выходило, они сильнее в том, что дает возможность следовать этим словам.
Вот в чем заключалось главное, чего он до сих пор не мог воспринять! Хотя был рядом с этим и рядом с этими людьми.
Все, любые средства представлялись ему хороши, если цель казалась благой, желанной… Видя силу зла, не чувствовал отвращения — учился овладевать им… Что угодно, лишь бы достичь нужного эффекта… Уже нашел Яконур, это была цель в его жизни новая, совсем иная; высота, где уже воздух разреженный; его Яконур; однако Герасим еще не был иным…
Да, он не рассуждал — что сделать для себя, не размышлял — делать ли для себя или для других, проблема была только — как делать для других, но это оказалась проблема!
Он был вполне свободен от власти денег и гнета материального, в нем не было пороков пресловутого карьеризма и болезней дурного честолюбия, он ставил перед собой высокие общественные цели и готов был отдать всего себя людям; откуда же вдруг такая безнравственность? замшелая неграмотность в элементарном и главном? проблемы там, где нет никаких проблем? невероятное, дикое смешение высокого и низкого, мысли, забегающей вперед, и умственной отсталости?..
Будто искуситель говорил в душе Герасима, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.