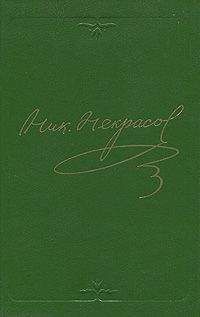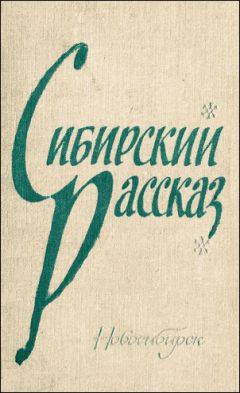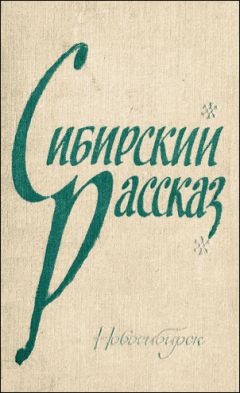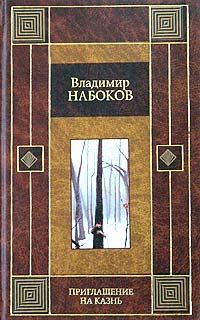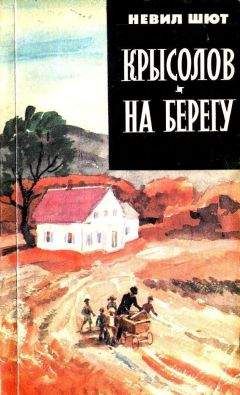Давид Константиновский - Яконур
Старик умолк и отвернулся от человека с длинными, совершенно седыми волосами.
…Ох-хо-хо! Долго мне еще его агитировать? Речей тут ему напроизносил. А он, дурак, терпит. Мог бы уже и промеж глаз. Образование не позволяет… Может, вправду я зажился? Опять ведь юбилей, здрасьте, давно не было, напоминание, что удалось протянуть еще пятилетку. Не жизнь пошла, а сплошные юбилеи. Вдоволь уже дал всем натренироваться для надгробных речей… А еще надо, чтоб он поддержал. Сюжет классический, — разве что не герцогство, королевство какое-нибудь там, а школа в науке. Да обычные опасения — при нынешней-то молодежи. Нет, не ворчу. Чтоб мне провалиться. И неизвестно, не погубят ли они науку совсем, эти молодые люди. Таланта одного, как показали всякие разные события, мало. Что, если понадобится идти непроторенными путями? Елки-палки, вот уже себе речи произносишь, безнадежное твое дело. К докторам, к докторам! А все-таки — если понадобится идти новыми путями? Нужно будет рисковать успехом, карьерой для истины. И откуда они возьмут упорство, самоотверженность, да просто энергию, чувство долга? Герцогство, королевство. Школа! Но тут счастливая ситуация, как всегда у Элэл, вот, пожалуйста, пример общественной активности, кажется, ошибки нет, и не надо думать, кого, — вот он, сам объявился. Ему все и отдать. Герасим — так Герасим!
* * *Пройдя отстойники, Ольга увидела низкое, грубо сложенное из красного кирпича здание.
Фанерная дверь на ржавой пружине…
Немолодая женщина, кутаясь в пальто, пошла ей навстречу между двумя рядами гудящих компрессоров. В комнатке лаборатории можно было разговаривать. Женщина сказала, что Борис заезжал, она сообщила ему про дренаж, и он поехал дальше, к колодцам.
Погрелись обе у электрического «козла».
Пробирки, колбы, бутылочки; вполне знакомая обстановка… Журнал, таблицы — цветность, окисляемость, температура…
* * *Так отчего же он вчера?.. И зачем?..
Нет, он просто пошел поужинать.
Ничего особенного, Борис просто пошел поужинать, опостылела ему холостяцкая его еда, вот и все, абсолютно все… ну, хорошо, не все… хотелось побыть на людях, необходимо стало побыть на людях, не мог один, целый вечер впереди, и быть один — не мог…
Да, он просто пошел поужинать!
А там — этот столик, куда его посадила официантка, командированные, приехавшие выбивать первую продукцию; разумеется, не лично для них Борис работал, но все же ими как-никак было что-то представлено; они показались Борису симпатичными.
Потом их разговор, они заказывали, а после еще долго обсуждали еду и выпивку… Затем их разговоры об их делах… Постепенно тон менялся… Тосты… Борис тоже пил водку, так он и не научился ее пить, все это видели и подтрунивали над ним, пил, хотя не испытывал никакого удовольствия, напротив, она была ему неприятна; пил с этими своими соседями по столу, хотя и они не были ему теперь так приятны, как вначале, за полчаса они успели стать менее симпатичными.
Народу все прибывало, и все более шумно становилось; заиграла музыка, начали танцевать.
Эта музыка… да любая… Ольга однажды сказала ему… Ольга, Ольга, Ольга… итак, Ольга… в общем, сказала ему однажды: музыкой можно с ним сделать что угодно; когда заиграла музыка, он встрепенулся, все в Борисе враз стало в лад этому ритму; затем он вспомнил об Ольге и еще явственней ощутил свое отчаяние…
Невдалеке за сдвинутыми столами сидела большая компания, невесту с женихом Борис не знал, но многие из гостей были ему знакомы, свои, с комбината; Борис почувствовал на себе взгляд, да и сосед его толкнул локтем, шепнул: «На тебя женщина смотрит», это была Соня, жена Николая из ремонтно-механического; Борис поздоровался с ней, Соня сказала что-то Николаю, и он тоже посмотрел в сторону Бориса и поздоровался.
Еще водка… Музыка… Соня с Николаем танцевали…
Внезапно Борис вскочил, перебив соседа; тут же удивился себе: он не собирался этого делать; отодвинул стул; был перерыв в музыке, сосед раньше Бориса догадался, что он сделает, и напутствовал его; Борис не дослушал.
Соня пошла с ним доверчиво и весело; рука ее была теплой, ласковой… Удивление собою сначала сменилось у Бориса смущением, затем он ощутил в Соне сочувствие и нежность, и тогда возникла благодарность к ней, а потом и радость… Музыка становилась медленнее и тише… Знала что-то Соня или догадывалась, почти чужой, едва знакомый по работе человек, — она бросала ему спасательный круг и делала это дружески и чисто, так, что он мог его принять… Благодарность к Соне и радость росли в нем, набухали, переполняли все возможные, предусмотренные для них в Борисе объемы, пытались выхлестнуться наружу, он не в силах был их сдерживать, да и не хотел, но слова для этого не годились…
Все продолжалось полторы или две минуты, пока была музыка!
Не отпуская теплой и ласковой руки, Борис ждал, когда снова… Николай мягко, добродушно забрал у него Соню.
Опять Борис сидел за своим столиком. Еще водка… Музыка… Соня с Николаем танцевали, им было хорошо и без него… Потом Борис потерял их из виду.
Снова тоска!
Сосед что-то говорил…
Обернулся, почувствовав руку на своем плече; Соня проходила мимо, шла вслед за Николаем; улыбнулась Борису и сказала: «Не сердитесь на нас…» — «Да я все понимаю!» — в тот же миг отозвался Борис, слова эти получились сами, сами сказались, он сказал их искренне, и тут же у него отлегло от сердца, он ощутил сладость освобождения от обиды, и ему стало оттого хорошо.
Сосед клевал носом…
Борис все сидел за своим столиком.
Сосед испарился…
Еще выпить?
Борис не чувствовал ни обиды, ни горечи, он вправду не сердит и не обижен был ни на кого…
Ничего не произошло. Ничего не происходило.
Просто он опять был один.
Просто он не мог уже больше, не мог…
* * *Солдат, который привез Герасима в детский дом, приезжал потом, после войны, и рассказывал.
Он увидел женщину, бежавшую с ребенком на руках от горящих вагонов; когда самолеты, сделав круг, начали приближаться к ней и пули взрыли сухую пыльную землю совсем рядом с нею, она остановилась, сильней обхватив ребенка руками, прижав его к себе и опустив к нему голову и плечи, чтобы закрыть его сверху; когда пыль закипела вокруг нее, женщина склонилась к земле, все так же прикрывая ребенка головой и плечами, стала на колени и осторожно, медленно, посреди грохота моторов и обстрела, легла на ребенка грудью.
Герасим не помнил ее… Солдат не мог ее описать…
Хотя Герасим пытался в детстве представить ее себе и обращался к ней, как к матери, она продолжала оставаться только отвлеченным образом матери, идеей матери, словом, обозначавшим мать.
Это было несправедливо, дурно, и сейчас он снова ощутил свою вину перед ней, никому не знакомой женщиной, которая, как говорили, была, возможно, его матерью.
Первые пули у ее ног виделись ему когда-то словно первые, крупные капли дождя, — вот они падают в пыль, одна, другая, тяжелые капли, плотные, третья, четвертая, разбрызгивая пыль, сами оставаясь в ней целыми, пятая, шестая; потом он узнал, что это совсем не так…
Не в силах вообразить ее лицо, — он много раз пытался представить себе, что происходило в ее душе. Что она чувствовала? И что думала? Со временем это делалось все более важным.
Желание анализировать не означало черствости. Он не делал это холодно. Это было очень нужно ему, нужно — и разуму, и сердцу. Так она ему помогала; и сейчас — как в детстве…
То, что она сделала, было результатом, по-видимому, не только природного импульса, но и сознательного решения; в то же время, Герасим понимал, соображения, которыми она руководствовалась, были самыми простыми. Естественными. Нельзя представить себе, чтобы их потребовалось кому-либо разъяснять.
Видел ее как бы издали, так, что лица не разобрать, — посреди голой степи.
О себе думал в третьем лице…
То, что она сделала, она сделала не для себя; она не могла не понимать, что едва ли будет наслаждаться ребенком в будущем, хотя бы увидит его. Она не могла не понимать также: то, что она сделала, практически ничего не давало и ребенку; было ничтожно, перед «юнкерсами» над головой, для его спасения; маловероятно было, невероятно, что ее действия изменят что-то в его судьбе и что даже ее смерть будет иметь следствием жизнь ребенка и его будущее. Она просто сделала то, что считала нужным. Доверилась своим уму и сердцу.
Не дожидаясь, когда пройдут «Ю-87», солдат вбежал под огонь и вынес ребенка.
Для него тоже было естественно сделать то, что он сделал.
Еще солдат говорил, что успел перед тем увидеть глаза женщины. Он был человек сдержанный, говорил скупо; к этому, Герасим помнил, возвращался снова и снова. Выражение глаз женщины, которую он не знал прежде, видел впервые и не мог встретить никогда больше, было, значит, для него там, под обстрелом, таким важным; происшедшее между ними в последнюю ее секунду, только между ними, и знали об этом только она да он; выражение глаз умирающей женщины, беспомощный взгляд, не обращенный никому и в то же время только к нему, имел для него ценность сам по себе. Он был, возможно, единственным, кто встретился с ней взглядом; она умирала навсегда… Достаточно было одному из пилотов чуть изменить положение рулей, или стрелку — прицела, или уже летевшей пуле — по любой фантастической причине — траекторию, и каков бы ни был взгляд женщины, что бы ни почувствовал солдат, и что бы он ни сделал, — никто никогда ничего не узнал бы об этом. Все исчезло бы без малейшего следа. И однако для солдата это не было существенным, ибо он не пытался совершить нечто, — он просто хотел защитить ребенка, ребенка женщины. Чувства и соображения солдата не могли уступить ни сознательным аргументам, ни бессознательному страху.