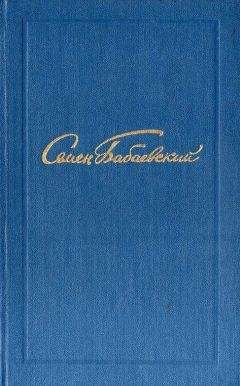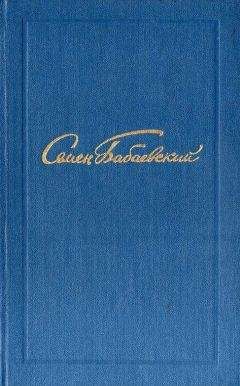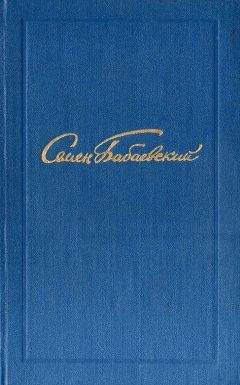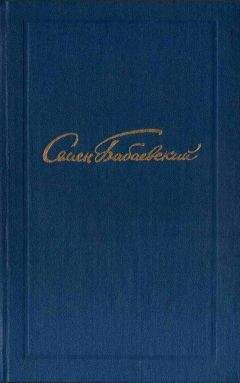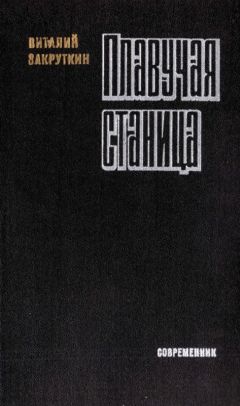Семен Бабаевский - Собрание сочинений в 5 томах. Том 5
— Погляди, за окном воробьи, к тебе прилетели, что-то щебечут. Какие развеселые. Встань да погляди на них. Немножко походи…
— Отходила свое, отбегала… Вот когда закрою глаза, так сразу, веришь, и побегу. Да так легко бегу, так быстро, а куда — не знаю. Вижу поле, зеленое, все в цветах, струится марево, солнце слепит, а я мчусь и мчусь, аж ветер бьет в лицо… Да ты же знаешь, как я умела бегать, помнишь, тогда, на выгоне, ты не смог меня поймать. Гнался за мной и за Лизой, а поймал Лизу… Меня не догнал. Ты помнишь? А бывает, в мыслях бегаю по своему двору — часто он, проклятый, мне увижается. То гоняюсь за кроликами, их много, они шустрые, не догнать и не изловить, то бегаю за курами, и так мне легко… А ты как теперь живешь? — вдруг спросила она строго, и Никита вздрогнул, никак не ждал такого вопроса. — Что делаешь? Снова на грузовике? А где живешь? У родителей, да?
— Прости меня, Клава, — не отвечая ей и чувствуя резь в глазах, тихо сказал Никита. — Если можешь, то прости…
— Эх, ты… Чего прощать-то? Нечего прощать…
— Я виноват перед тобой, Клава.
— Поздно, поздно… Ох, как поздно…
— Да почему же поздно?
— Что было, то было, пережитого не вернешь…
— И все же прости меня великодушно…
— Ну что заладил? Я сказала, нечего прощать… Да ты не обо мне подумай, а о детях, о них позаботься, как отец. — Она с усилием облизала высохшие губы, и ее тонкие, с прожилками веки сомкнулись. — Ни о чем другом не просила бы… О детях прошу. Если бы не дети, видеть бы тебя не смогла, не пожелала бы… Так что еще раз прошу — сбереги мальчиков наших… А теперь уходи, мне надо отдохнуть… Нет, погоди, забыла еще сказать. — Она хотела расклеить свои веки, чтобы еще раз посмотреть на Никиту, и не смогла. — Ежели вздумаешь жениться, то женись на Лизе… Когда-то она любила тебя больше, нежели я, да и сейчас еще любит… Лиза приходила, проведала. Мы тут вволю, по-бабьему, наплакались… Теперь-то нам не надо тебя делить… Ну, уходи и прощай…
Утром Никита нарочно прошел мимо больницы, посмотрел на окно и на провода и обрадовался. На верхнем проводе сидел, нахохлившись, воробей. «Какой ты молодец, — подумал Никита. — Знать, Клава будет жить, загадка моя сбылась»…
Потом два дня кряду поливал дождь с ветром, клен совсем опал, начисто оголился, мокрая ветка кланялась, царапала провода, и на проводе, под самой крышей, все так же мостился воробей… А на третий день, в среду утром, из больничных ворот выскочил Петя Андронов и побежал по залитой водой улице. Белея мокрой головой, плача и ничего не видя, он налетал на лужи, падал и, поднявшись, снова бежал и бежал, и смотревшие на него станичники только покачивали головами, не понимая, что же с мальчиком случилось. Мокрый, забрызганный грязью Петя влетел во двор дедушки Андрея, увидел стоявшую у порога бабушку Феклу и, задыхаясь и плача, припал к ней, не в силах вымолвить слово.
— Петенька, внучек, что с тобой?
— Наша мама померла… Витя в больнице, там и тетя Надя, а я побежал к вам…
У Феклы Лукиничны подкосились ноги, и она, чтобы не упасть, прислонилась к двери, прижимая к себе плакавшего внука.
34
После смерти Клавы положение больного Андрея Саввича не то что ухудшилось, а стало совсем плохим, и случилось это, как думала Фекла Лукинична, только потому, что старик настоял на своем и побывал на похоронах. Он не внял ни совету жены, ни настоятельной просьбе Валентины. Как врач и как невестка, Валентина умолили больного не вставать с постели и тем более не ходить на похороны. Но жена и невестка не знали, что в эти дни пережил Андрей Саввич, что думал он о Клаве и о Никите и почему, оставшись один дома, он все же встал, оделся, взял палку и, опираясь на нее, пошел попрощаться с Клавой. И вот тут, возле гроба, когда заголосила Надя и заплакали, припав к матери, Витя и Петя, старик повалился, как подбитый, и его увезли в больницу. Там он пролежал больше трех недель.
— Я уже чувствую себя лучше и прошусь домой, — говорил он слабым голосом. — Дома свои, родные стены подсобляют. А в больнице лежать тоскливо.
Просьба больного была удовлетворена, Валентина согласилась дома смотреть за свекром. И вот он уже лежал на своей кровати, исхудавший, с ввалившимися глазами, с отросшей бородой, печальный и молчаливый, и долго смотрел не отрываясь в потолок, шевеля губами и что-то шепча, то надолго закрывал глаза, о чем-то думая. Казалось, ничто теперь его не интересовало. С Петром и Иваном, которые заходили проведать, говорил мало и неохотно. Только однажды, задумчиво посмотрев на сыновей, сказал словно бы про себя:
— Ну что, сыны? Теперь все мы убедились, к чему привело безрассудство Никиты?
— Не думайте о нем, батя, не расстраивайтесь, — сказал Петр. — Никита не маленький, сам о себе пусть думает.
— Как же не думать о нем? А совесть? Куда ее денешь? От нее, от совести, не уйдешь. — Старик закрыл глаза и проговорил совсем тихо: — А Клава? Как ее забыть? Это же Никита довел ее до могилы…
Измученная и похоронами и болезнью мужа, Фекла Лукинична больше всего тревожилась о том, что Андрей Саввич, будучи от природы человеком веселым, жизнерадостным, сделался угрюмым, молчаливым. Ей казалось, что он не болен так, как бывают больны люди, а что внутри у него прочно засела удручающая тоска и что если бы можно было как-то выдворить ее оттуда, избавиться от нее, если бы Андрей Саввич смог как-то вдруг и очень сильно обрадоваться, он стал бы и веселым, и разговорчивым, таким, каким был раньше, и тогда болезни его пришел бы конец.
Много думая об этом, она неожиданно пришла, как ей показалось, к важной мысли: надо лечить мужа не уколами и не таблетками, а таким житейским лекарством, каким является радость. Но где взять это лекарство? Как им лечить? И что надо сделать, чтобы очерствевшее, укрытое хмуростью бородатое лицо Андрея Саввича вдруг расцвело бы в улыбке? Телевизор смотреть он не захотел, да и ничего веселого в эти дни по телевидению не показывали. Может, пригласить балалаечника Сеньку, пусть бы порадовал музыкой, поиграл бы ему, спел бы развеселые частушки. Сенька это умеет. Слушать балалайку и Сенькины частушки Андрей Саввич не пожелал.
— Шум мешает думать, — сказал он. — Да и не приставай ко мне, Фекла…
— Я не пристаю, я добра тебе желаю, — говорила жена. — Тебе надо выбросить из себя тоску и всякую печаль, да обрадоваться, да развеселиться. Саввич, скажи, что могло бы тебя обрадовать? Ну, что?
Андрей Саввич закрыл глаза и долго молчал.
— Внук Андрей, — вдруг неожиданно сказал он, открыв чуточку повеселевшие глаза. — Прикажи Ивану и Валентине: пусть покажут моего тезку, а то умру и не увижу. Чего они прячут от нас внука? Где он зараз находится? Все еще там, в Предгорной? А почему не везут в Холмогорскую? Он же нашей фамилии, Андронов.
— Прибудет к тебе внук, завтра же, а может, и сего дня. — Обрадованная Фекла Лукинична с улыбкой смотрела на мужа. — Андрюшка — это же такая радость.
«Так вот кто избавит беднягу от хворости — внучек Андрюшка. И как это я раньше об этом мальчугане не вспомнила? — думала Фекла Лукинична. — Ить Саввич сам назвал свое лекарство, сам вспомнил про внука и сразу как бы повеселел от одной только мысли. Вот ты какой молодец, Андрюшка. Средь нас ты самый малый и для деда Андрея самый желанный. „Пусть покажут моего тезку“… Вот оно что, тезка ему нужен. Давно надо было бы этого тезку привезти, пусть бы пожил в доме деда»…
С этими обнадеживающими мыслями, не мешкая и ничего не говоря мужу, она отправилась к Ивану и Валентине. Шла по улице и обдумывала, как скажет им о своем лекарстве и как Иван и Валентина похвалят ее. Теперь она знала, как объяснит сыну и невестке свой план: внука необходимо поднести к деду неожиданно, и когда Андрей Саввич увидит своего тезку, а потом возьмет на руки, то тут и произойдет настоящее чудо.
В доме у сына с рассказом о своем лекарство ей пришлось повременить. Иван только что вернулся со степи, и, голый до пояса, умывался над тазом, а Валентина поливала воду из кружки ему на голову и на плечи. Только когда Иван вытерся полотенцем и надел чистую рубашку, Фекла Лукинична смогла спокойно изложить свой план лечения отца. И как же она была удивлена и расстроена тем, что ни Иван, ни Валентина не только не обрадовались и не одобрили ее план, а даже не посочувствовали ей. Иван кривил в усмешке губы и, причесывая перед зеркалом мокрый чуб, сказал:
— Пустая затея. Пусть отца лечат врачи, и вы, мама, в это дело не вмешивайтесь. Медицине надо верить.
— Почему же, сынок, не вмешиваться? Ить душевная радость — это же самое верное средство, — убежденно доказывала мать. — Разве вы слепые и не видите? Отца свалила тоска, и случилась с ним эта беда через Никиту. Не мог перенести бесчестие сына… А тут еще смерть Клавы и осиротевшие внуки доконали. Вчера Витя и Петя приходили к деду и опять принесли ему горе. Обнял обоих, а по бороде слезы, как горошинки, покатились. Что же это такое? Чтоб Саввич заплакал? Да никогда этого не было. А нынче слезы, да тоска, да мрачные думки, да обида на Никиту и ни капельки радости. Как же в таком положении ему поправиться? А вот влилась бы в него радость, то и здоровья в нем прибавилось бы, и, я верю, сразу бы он поправился. Он же сам вспомнил про Андрюшку. А через чего вспомнил? Да через то, что хочется ему, чтоб малое дитё помогло ему избавиться от тяжких дум и от печалей… Чего так смотрите? Вам что, или жалко показать деду ребенка?