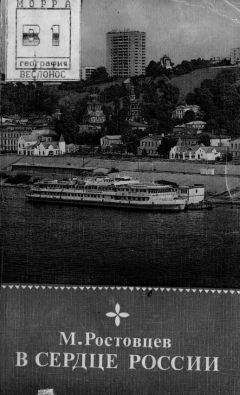Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Подожди, Тиша, разве это главное? — тихо, скрывая рыдания, попросила Нина Гавриловна. — Говори, Степа.
Тихон Николаевич промолчал, только недовольно поднял руку, уцепил ладонью подбородок.
— Ну, кинулся он к печи. А тут его и накрыло стеклышком. Крыша-то стеклянная у нас, ну и рухнула.
— Вся крыша? — ахнула Нина Гавриловна.
— Нет, нет, не вся, Степан повел перед собой руками, стараясь как можно меньшим показать стекло. — Счастье, Нина Гавриловна, что в голову не попало. Плашмя по спине. А тут еще маленький взрывчик — хлоп, Сережу волной в грудь, малость сразу-то ошарашило, упал, ударился…
Степан явно не знал, что говорить дальше, и вдруг почти радостно выкрикнул:
— Ногу вывихнул. — И, ухватившись за этот диагноз, уже со вздохом облегчения: — И руку тоже.
— Господи! Что же это? Как же это? — вдруг зарыдала в голос Нина Гавриловна, и в этот момент Степан, вскочивший с табурета, увидел в дверях Сашеньку.
Он замер, приоткрыв рот, и тут же нахмурился, соображая, с чем, с какой вестью может войти в этот дом медицинская сестра. Глаза его просили:
«Или молчи, или уйди из этого дома. Видишь, я сделал все, чтобы успокоить их. Не смерть же ты принесла сюда?»
Сашенька поняла Степана, ответила взглядом: «Не смерть». И в это время Тихон Николаевич тоже увидел Сашеньку и появление ее растолковал по-своему.
— Уймись, мать, — как-то уж очень нежно сказал. — Погляди-ко, к нам гостья, и сдается мне, не чужая. Входи, дочка, входи.
Так ее и понял Тихон Николаевич. За эту мысль отчаянно ухватился и Булыгин.
— Заходи, заходи. Нечего хорониться, — зашумел Степан, разом кинулся к Сашеньке, обнял неуклюже за плечи, чмокнул в висок, выдохнув вполушепот: — Молчи! — И потащил в комнату.
— Вот знакомьтесь, невеста Сергея… — выдохнул и вдруг вспомнил, что не знает имени девушки.
Тихон Николаевич крепко пожал маленькую теплую ладошку.
— Саша, — сказала Сашенька и залилась горячим румянцем от самых корней волос до выреза на кофточке.
— Ну меня то вы, наверное, знаете, как величать. Ах шельмец Серега, ах шельмец! Такую дивчину прятать от глаз родительских. Натру я ему холку, как выпустят из больницы.
Сашенька еще больше смутилась, силясь что-то объяснить, а Тихон Николаевич по-отцовски уже подталкивал ее к плачущей Нине Гавриловне.
— Доченька ты моя, — вдруг выкрикнула та и обняла девушку и прижала ее к сухой горячей груди. — Доченька, горе-то, горе-то какое! Лепесток ты мой нежный, — и спрятала свое лицо в мягких, сладко пахнущих волосах Саши.
Тяжелый комок подкатился к Сашенькиному горлу, ожег все внутри, и слезы сами по себе брызнули из глаз.
Нина Гавриловна и Сашенька, пройдя к обнимку несколько шагов, присели на жесткую кровать Сергея. (Он летом и зимой спал в летнице.) Обняв друг друга, плакали, как могут плакать люди, объединенные одной любовью, одним горем.
— Поехали, — вздохнув, сказал Тихон Николаевич. — Пойдем, Степа, покурим.
Мужчины вышли на крыльцо. Сашенька что-то успокаивающее и нежное быстро-быстро сквозь слезы говорила Нине Гавриловне.
— Девка! Цены нет! — доставая из кармана папиросы, сказал Степан.
— Давно у них? — спросил Тихон Николаевич.
— Да как с армии пришел, — соврал Булыгин.
— Шельмец, ах шельмец!
Глава V ПохороныИ снова я думаю о тебе, родной ты мой Русский Человек. Широк и весел ты в радости, суров и собран в горе, отзывчив и сердечен на любую беду любого человека, страны, народа ли.
И вечно жалеешь ты сердечной жалостью обездоленных, униженных, оскорбленных, вечно готов кому-нибудь помогать, словом ли, делом, последним куском хлеба, рубашкой последней.
Чужой бедой горюешь ты, а придет своя, большая, сдвинет силой невидимой, поставит плечо к плечу с другими, соберет воедино, ибо ничто не сближает так русского человека, как общая беда, горе общее.
Так и в похоронах, в последнем поклоне, в последней дани уходящему.
И чем чище был человек, чем добрее, тем больше соберется за его гробом людей, больше прольется неудержных слез, и смерть его объединит разных людей, сблизит их, сделает роднее друг другу.
Бывает у нас — годами, да что годами, десятилетиями не встречаются близкие по крови люди. А умри кто, и слетятся изо всех углов большой нашей земли, с севера ли, с юга, с запада, с востока ли, собаками, лошадьми, оленями, самолетами будут гнать, лишь бы успеть на прощание, лишь бы встать, в горе рядом, плечом к плечу, помочь, не оставить в беде другого.
Смерть Георгия Заплотина — горе общее.
Велика ты, матушка Сибирь, велика. Только на вторые сутки добрался до города Архип Палыч. После той телеграммы ушел в тайгу незрячим, ничего не помнящим. Ушел от села, чтобы не слышать праздника, не мешать своим горем радости.
Облегчил душу слезами у Авлакан-реки в потаенном месте, куда еще в молодую пору важивал Марфу. Все припомнил — и радости, и беды, и детей, потерянных на войне, и зятя, вспомнил, что хоронил последний раз, лет десять прошло, троюродного брата, а теперь вот сына придется.
Вернулся в село — словно бы вымерло все вокруг: ни гармошки, ни песни, ни говора не слыхать. В избе его полно народу. Кто у Марфы в каморе толчется, плохо матери, кто по лавкам в горнице и других комнатах сидят — соболезнуют. Столы праздничные убраны — будто и не было столов.
Вошел в избу Архип Палыч, будто чего на полу ищет, будто обронил что-то. Вошел — и разом поднялся плач отовсюду, всхлипы да причитания. Подождал малость, тяжело рукой повел:
— Будя, бабы. Не рвите сердце.
Еще пуще плач. Подозвал Михаила с Алексеем.
— Правьте лодку. Часом в Буньское едем. Елизавете скажите, чтобы сладила все в дорогу.
— А мать как?
— Матерь тут останется. Не сдюжить ей дороги и города.
Прошел в холодный прируб, вынул из ларя бутылку. Сорвал тяжелыми пальцами востренькую косыночку пробки, широко открыв рот, выкинул в него всю водку до капельки единым духом.
Хмель не взял, и легче не стало Только словно бы прокатилась по паленой душе горячая волна, смыла с нее ту оморочь, что легла от слов телеграфиста.
Пришли дружки-погодки проведать, завотделением промхоза пришел, председатель сельсовета.
Вынесла им на крыльцо Елизавета по стакашке. Выпили мужики молча, не чокаясь, не закусывая, выпили так, словно выполнили трудную, но обязательную повинность.
— В Буньское сейчас иду. Завтра поутру оттуда рейсовый «Антон» летит, — сказал Архип Палыч.
Засомневались мужики:
— Пройдешь ли ночью-то? Больно замелел Авлакан — шиверка на шиверке. Опять же ждановский порог — пройдешь ли?
— У меня, паря, выбора нету.
Пришли сыны сказать, что справили лодку, мотор сладили, вещички тоже.
Пошли прощаться. Снова, как улей, загудела изба плачем да причитаниями наполнилась. К реке шли молча.
В ушах Палыча так и стоял выкрик жены:
— Ты уж, Архипушка, в лобик его холодный за меня поцелуй и вы, ребята, тоже за меня. Слышите? В лобик!.. — И залилась, захлебнулась слезами.
Молча сели в шитик, пожав руки провожающим. Председатель Совета оттолкнул лодку от берега, забрел по колено в реку, распрямил спину, глухо сказал в ночь:
— С богом, ребята!
— Будь здоров, паря, — откликнулся Архип Палыч.
Взревел мотор, побежали назад черные в ночи копешки изб села Данилова.
На аэродроме в Затайске Архипа Палыча встречали.
Не успели Заплотины сойти на землю, подошли к ним люди. Высокий седой мужчина, от подбородка по всему лицу, трогая губы, наискосок к левому виску вызмеился шрам. Глаза грустные, ухватил в них Архип Палыч настоящую мужичью скорбь.
Седой, не спрашивая имени, протянул руку, крепко сжал ладонь Архипа Палыча, молча, рывком притянул его к себе и обнял крепко — по-сыновьи.
Стали здороваться и другие: двое молодых людей — инженеры, друзья Гошкины, здоровенный детина — тоже молодой — Степан Булыгин, еще трое или четверо, коих уже не смог разобрать Палыч, и последним подошел высокий, с острыми плечами, пожилой, рабочий ли, начальник, не разобрать.
Обнялись. Получилось так, что дольше и крепче, чем с другими.
— Тихон Поярков, — сказал остроплечий, пожимая, как клещьми, руку.
— Заплотин Архип, — ответил Палыч, как клещьми сжимая в ответ руку Пояркова.
В автобусе седой представился, представил остальных.
Он парторг завода — Думичев Михаил Васильевич. Остальных, кроме Тихона Пояркова, рабочего Степана Булыгина да еще инженера Ивана Ивановича Васильева, Заплотин по имени и фамилиям не запомнил.
Представил, помолчал. Автобус бежал широкой асфальтовой дорогой, развалившей тайгу надвое, нигде и не виделось города. Еще ни слова никто не сказал о Гоше.