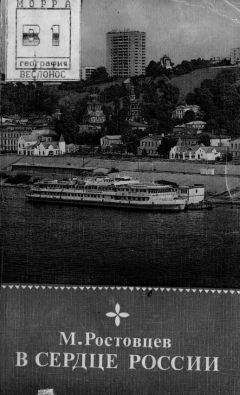Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
Здесь, в еще волглой тени, было свежо. Прохлада касалась щек, оголенных рук и шеи, зябко трогала ноги, но Саша не торопилась выйти на залитую жарким светом широкую и прямую асфальтовую дорожку. Она шла, ведомая тропинкой, петляя меж стволов и густых низеньких кустарников.
И только у самой больничной ограды тропочка, еще раз вильнув, вынырнула к воротам.
— Гражданочка, где тут передачи берут и свидания разрешают?
Группа парпей преградила ей дорогу. Тот, что говорил, показался Сашеньке знакомым, и она, приглядевшись, узнала в нем, немного смущавшемся, парня, который привез вчера Пояркова.
Теперь на нем был серый, спортивного покроя костюм, коричневые новенькие туфли и белая, чуть отдававшая синью рубашка с отложным воротничком.
Он был совсем не похож на того, вчерашнего, так напугавшего нянечек и ту больную, которую выпугнул из ванной комнаты.
— Вы, наверпое, к Пояркову? — строго спросила Сашенька.
— Ну! Вот всей бригадою! — Парепь улыбнулся, и Саша заметила, что у него очень добродушное лицо и хорошие серые глаза. — Да это вы, сестричка! — узнал он Александру Федоровну. — Ребят, она Серьгу нашего принимала. Как он?
— Как? — Парпи придвинулись ближе к Сашеньке и окружили ее.
— Все пормально, — стараясь быть как можно строже, сказала девушка. — Операция прошла удачно. Была очень трудной. Пришлось накладывать швы на глазные яблоки.
— Ну? — изумились ребята.
А Сашенька продолжала строго:
— Он сильно контужен. Потерял слух, но это восстановится.
— Да он же слышал все. Со мной говорил, — сказал вчерашний парень, словно бы оправдываясь.
— Серьезно поврежден кожный покров лица, рук, шеи. Рваная рана в области грудной клетки. Треснула правая ключица. В общем, положение серьезное.
— Жить, жить-то будет? — спросил кто-то из ребят, и Сашенька встретилась взглядом с его глазами. Они смотрели с нескрываемой болью и надеждой. Словно от того, что скажет сейчас Сашенька, зависит все будущее их товарища.
— Будет! Должен жить, — почему-то дрогнувшим голосом и чуть покраснев ответила Саша.
Разом зашумели ребята, а тот, вчерашний, как-то неуклюже и вместе с тем бережно взяв Сашеньку под локоток, попросил:
— Нельзя ли, сестричка, свиданочку с ним. Передачу мы тут вот схлопотали. Дай-ка, Алексеи, передачу-то.
И стал совать в руки Саше громадный пакет, перевязанный внахлест бечевкой.
— По малости. Мы тут вот все необходимое закупили. Тараночки достали, Серьга любит тараночку. А вы, сестричка? — Он пытался чуть заискивать перед Александрой Федоровной, но это плохо удавалось ему, зато пакет воткнул ей в руки решительно и плотно.
Передача оказалась весьма увесистой и объемной. Саша едва удерживала ее, обхватив руками, придерживая пакет подбородком.
— Что вы, товарищи, его же искусственно кормить еще долго будут.
— Ну?! — искренно удивились ребята.
— Ему только жидкое сейчас можно, — пытаясь отдать пакет, говорила Сашенька.
— Жидкое. Во-во. Мы, сестричка, и насчет жидкого тоже. Это очень правильно. Много оно, конечно, завредит, а маленько это надо. Это даже на войне в госпиталях при операциях давали. Леха, давай сюда жидкое.
Алексей Репников, придвинувшись к Сашеньке, начал вытаскивать из брючного кармана четвертинку.
— Только вы ему передайте. Обязательно.
— Что это?! Да вы что, граждане, совсем…
— Мы ж маленько — всего и есть-то чекушка. «Столичная». Попробуйте-ка найти. Ну?
— Да нельзя ему ничего. Нельзя! Поймите вы, каменные, человек-то между жизнью и смертью. На волоске он, а вы… Ах вы, друзья!! И вообще сегодня посетителей не принимаем! — Сашенька не успела удивиться вдруг родившейся в ней выплеснувшейся злости, а ребята уже как-то мигом отдалились от нее. Они по-прежнему стояли вокруг, не отступив ни на шаг, но между ними и Сашенькой легла разом незримая широкая полоса отчуждения.
— Это почему ж мы каменные? — спросил тот, с которым встретилась она взглядом и которого называли ребята Алешей.
— Зачем же вы так?
— Я за этой самой четвертинкой ночь проездил. Что же мы плохого сказали тебе, медсестра?
— Спасибо вам! Когда принимаете-то посетителей? — опросил тот — вчерашний.
Завтра, в среду, — уже растерянно ответила Сашенька и почувствовала: краска залила ее лицо, шею и даже руки.
— Идите, хлопцы. За воротами меня подождите. Я к профессору самому пошел.
— Иди, Степа, мы подождем.
И Степан, не оглядываясь, зашагал прочь крупным шагом.
— Эх, — размахнувшись четвертинкой, выкрикнул Лешка, решив швырнуть ее далеко в сосны, но задержал руку, круто повернулся, спрятал бутылку в боковой карман и вышел вслед за ребятами за ворота.
Сашенька растерянно стояла посреди дороги, прижимая руками неуклюжий громадный пакет и придерживая его подбородком. Потом повернулась и пошла за Степаном к зданию хирургического отделения.
Ей было очень нехорошо и хотелось плакать.
Глава IV ПоярковыДом Поярковых в Заречном поселке был крайним в длиннющей, километра полтора, улице.
Он стоял на крутом берегу речки Живицы. Четыре окна смотрели на говорливый, вечно деятельный перекат, который не замерзал даже в лютые морозы, два окна и прируб просторной лестницы выходили в тайгу, плотно подступившую к дому. Зимою у бревенчатой стайки петляли по сугробам зайцы, жаловала сюда и лиса, вынюхивая и высматривая поживу.
Лет пятнадцать тому назад, когда построился Тихон Николаевич Поярков, бродили тут и сохатые, выходили к перекату послушать его гуготню, попить всегда прозрачной, вкусной и мягкой воды.
Соседство быстро выросшего поселка не понравилось им, и они ушли глубже в тайгу к гривастым сопкам, к новым водопоям и перекатам. Но зайцы и лисы продолжали наведываться до последних лет. Тянули их к себе сладкие листы капусты, оставленные на огороде под снегом, и запах теплого курятника тянул.
Тихон Николаевич — искусный рукодельник — выдумывал хитроумные ловушки и капканы его, поярковской, системы и целыми зимами воевал с непрошеными гостями. Частенько случалось так, что к столу подавалось заячье рагу, а жене обещался Тихон Николаевич справить к старости шубу.
Серьезным «промыслом» Поярков занялся лет пять тому назад, когда пришлось оставить горячий цех металлургического завода и выйти на пенсию.
Прожив всю жизнь в громливых цехах при большом огне плавок, Тихон Николаевич удивился тишине, которая вдруг разом окружила его. Раньше он не замечал ее — девственную, мудрую тишину природы. Прожил всю жизнь в таежном крае, где все еще на тысячи и тысячи километров раскинулись непроходимые дебри, а с глазу на глаз и не пришлось пообщаться с природой. Мальчонкой ушел в шахту, работал в ламповой, потом каталем, потом сам валил обушком пласт за пластом, вышел из-под земли восемнадцатилетним парнем, встал к мартену.
Война кинула его далеко на запад, потом на север, в революционный Питер, и снова тайга, гремящая выстрелами, полыхающая пожарами. Бои, переходы — и на Тихом океане свои закончили поход.
А там снова мартены, пятилетки, депутатский значок на груди, ордена, встреча в Кремле: Орджоникидзе, Сталин…
Позднее не раз вспоминал эту встречу Поярков. Сначала по просьбе товарищей на собраниях и митингах в трудные тридцатые, индустриальные годы, и в лихолетье войны, и в послевоенное время. И даже тогда, когда многие из слишком торопливых товарищей ставили ему в вину эту встречу и его «близкое знакомство» с тем, кто все-таки, по твердому поярковскому убеждению, выволок на своих плечах и плечах руководимой им партии, на железной воле, на твердости духа, даже на жестокости неимоверную тяжесть становления новой индустрии. Для рабочего, мастера, начальника цеха и снова мастера Тихона Николаевича Пояркова Сталин был прежде всего работником, если угодно, работягой у горящего жерла страны.
Не знал в своей жизни тишины Тихон Николаевич, не знал и вот впервые встретился с ней с глазу на глаз, оказавшись вдруг за стенами действительно родного ему завода. Сердце подвело, не выдержало, буксовать начало, да и глаза подводить стали, выгорели на большом огне глаза. А думал, что так и умрет у печи, на рабочем своем месте.
Сначала мучался бездельем, свалившимся на него, как пухлый снег, тишиной мучался. Бегал каждый день на завод. Ругался в сердцах с женой — Ниной Гавриловной.
Потом привык. Все чаще и чаще стал с ружьишком в тайгу подаваться, капканы и ловушки ладить, копаться на огороде, задумал сад насадить и вырастить виноград. Саженцы вымерзали, виноград рос — прятал лозы на зиму в глубоченные траншеи. Изрыл всю землю по солнечному яру, как крот.
Охотники-любители — соседи — жаловались Нине Гавриловне: