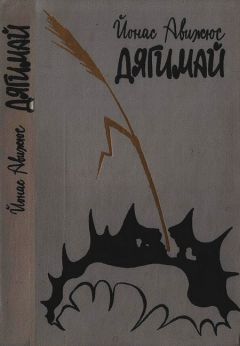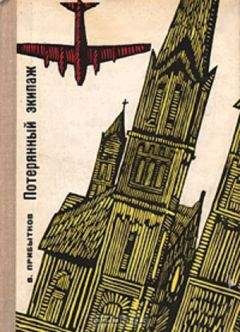Йонас Авижюс - Потерянный кров
— Вы мне солнце не застите.
— Знаю, все ждете, когда окочурюсь. Надоела. И все потому, что добра вам желала. Людей из вас сделать хотела, на ноги поставить. В гору толкала телегу, а вам не нравилось. Известное дело, с горы веселей катить, но далеко ли? Отпустила бы вожжи, так этот бараний лоб давно бы сделал нас голопузыми, каким сам был тридцать лет назад.
Аквиле сидит на стуле у изножия кровати. Спертый воздух, вонь. За окном — голый куст шиповника, деревья над гумном. Дальше поля в ветхом тулупе первого снега, испещренном черными заплатами. На буграх расселись хутора, вдоль канав ершатся кусты, туманная стена леса подпирает рухнувший небосвод. Уйти бы в поле и не вернуться!
— Отошли от матери, как корка от каравая, — продолжает сокрушаться старуха. — Адомас и тот, такой уж хороший сын, приезжает в Лауксодис и не находит дверей родной избы. Что я ему сделала? Скажешь, худого желала, когда запретила жениться на Милде, этой шлюхе последней? Послушался бы меня, как тогда, когда эта сука еще в девках ходила, не присох бы к соломенной вдове, все бы иначе обернулось. Баранья голова! Выпила баба яду, и помешался. Отцовская кровь. В нашем, Яутакисов, роду таких слюнтяев не водилось.
— Но никто и в людей не стрелял, — не выдерживает Аквиле.
Лицо старухи страдальчески перекошено. Она прижимается к горке подушек, посиневшими губами хватает воздух. Может, боль прижала, а может, эти слова всей тяжестью навалились на нее. Она защищается от них, машет у себя перед носом увядшими руками.
— Говоришь чужими словами. Кто стрелял? В кого? Брехня деревенских побирушек. Большевиков! Ненавидят власть, вот и мелют языком, врут. И ты с ними. На кровного брата! Образумься! Кто-то где-то услышал, подхватил из десятых рук, а кто видал? Покажи хоть одного. А если и было дело… Служба, работа такая. Во все времена всякая власть своих врагов карала. Христиане шли против христиан, и то господь благословлял — не грех солдата убить. А тут война с безбожниками. Святую веру защищает. Как у тебя язык поворачивается! Такое на кровного брата? Чем глупые толки разносить, лучше бы съездила проведать.
Аквиле молчит, упорно глядит в окно. В груди так и клокочет. Навалилась бы горой, самыми страшными словами обозвала бы мать, но хочет побыстрей закончить мучительный разговор. «Если б она знала, что мои губы, которые только что касались ее лба, недавно целовал Марюс…» В страхе съежилась, словно цепкий материнский взгляд прочитает ее мысли.
— Может, Кяршис вернулся. Пойду, — говорит она, пытаясь встать, но голос матери усаживает ее.
— Не поедешь к Адомасу, по роже вижу. Беспутная. Какой-то большевик ей дороже родного брата. Что, неправду говорю? Ага, аж уши посинели. Сумасшедшие! С этим русским солдатом могли всех погубить.
— Русским солдатом? — Она перевела дух после этих слов, но все еще чувствует, как шевелятся волосы на голове.
— Не выкручивайся, этот баран худосочный все мне рассказал. Приволокли из лесу, засунули в сено. Если б не Адомас, неизвестно, чем бы ваши затеи кончились.
— Адомас… — Аквиле с ненавистью взглянула на мать. — Да, он сделал то, что и вы бы сделали: выбросил умирающего на улицу.
— Господь предначертал ему смерть в лесу, а вы не послушались воли всевышнего, вот он и помер в другом месте.
— Думаю, еще не поздно донести на меня в гестапо.
Старуха швыряет трехэтажное ругательство, а потом разражается смехом. Хихикает, фыркает, как кошка на собаку. Ох, недоумки захудалые, нашли от кого скрывать — от своего человека! Этот бараний лоб — понятное дело. Или Аквиле. У нее все время чердак был не в порядке. Но Адомас! И этот ведь даже не пикнул. Как будто не она, Катре Вайнорене, а сам дьявол его рожал. Если б не Юргис, так бы и не узнала, что тогда дома творилось.
Ох, этот поганец паршивый! Норовит мать без ножа зарезать. Книжки, газетки, радио. Работать палкой не загонишь. Кричи не кричи, а он знай свое — крутит свою трещотку да зубы скалит. И каждую минуту долдонит: русские идут. Придут или нет, одному господу известно, но как подумаю, что такое может стрястись, сердце таки заходится. Боже ты мой! Тогда уж прощайся с этим светом. Все до единой головы, как кочаны, снесут за евреев. Ведь не оправдаешься: я, мол, не стрелял, — уложат в ямы, как немцы ихних дружков уложили, и дело с концом. Это они умеют, знаем: в газетах пишут про зверства большевиков. Так вот, позавчера Юргис как распустит глотку… Русские такие-то города заняли, столько-то немцев перебили… Назад больше не идут, все вперед да вперед прут, все ближе и ближе к Литве… Как начнет, как начнет, — а болтать этот дурачина несмышленый умеет, — ей, Катре, даже худо стало. Такой страх прижал, будто фронт уже здесь, двор полон солдат, а в окна избы нацелены их длинные ружья. Завопила не своим голосом, стала на помощь звать. В комнату отец вбежал, дети слетелись, стали успокаивать, а ей все равно всюду русские мерещились, так до утра и не заснула. Тогда этот баран безголовый и сказал: они с Аквиле прятали русского летчика, и тот выдал расписку, чтоб большевики, когда придут, Вайнорасов не трогали.
— Не приведи господи, чтоб пришлось за эту бумажку хвататься… Но если придется… А вдруг плюнут, не посмотрят — да за глотку?.. Но утопающий и за бритву хватается. Отведи, господи, эту беду несчастную.
Умаялась, замолкла. Черты лица стали мягче, глаза погасли. Синие черточки губ шевелятся: кончают невысказанную мысль или шепчут молитву своему богу?
Аквиле встает, собирается с духом, старается побороть отвращение. Вее напрасно. Ушедшее в подушки лицо отталкивает ее, и она, так и не поцеловав мать, боком выбирается из комнаты. Ее провожает мрачный взгляд, в котором больше горькой обиды, чем злобы.
Отец стоит во дворе, прислонясь к изгороди, жует горох. Только что бросил горсть голубям, и они клюют, тучей опустившись к его ногам.
— Погляди, какая у меня семейка, — улыбается он, увидев Аквиле; счастлив, как и птицы; некому его пилить. — Развелось их тьма-тьмущая, придется больше корзин подвесить под стреху. Нравится им тут. Пускай плодятся. Пускай хоть птицы плодятся, когда людей убивают. Ах да, как мать? — наконец вспоминает он.
— Больная как больная. Зайду еще как-нибудь, проведаю.
— Заходи, заходи, Аквилюте. Оба с Пеликсасом заходите.
Аквиле издали огибает голубиную стаю, чтоб не вспугнуть. У конуры Рыжика — Юргис. Она машет им обоим. Юсте нигде не видать. Наверное, умчалась в деревню.
— Ведь ты хотела мне что-то сказать? — догоняет отцовский голос. Ах, о Марюсе! Нет, теперь уж нет…
— Тороплюсь. В другой раз, отец.
И уходит не оборачиваясь. Чуть ли не бегом, хотя спешить ей некуда.
Угрюмые старые деревья за гумном. Хутора. Облысевшие клочья кустов вдоль канав.
«…Тогда этот баран безголовый и сказал, что есть у него такая расписка…»
…А поля-то пустые! Аж сердце ноет…
VВорога распахнуты настежь. Словно полк гостей ввалился на хутор. Свежая колея. Сбруя брошена на крыльцо клети. Что-то не похоже на Кяршиса… Буланку, правда, забрали, но неужели из-за этого?..
С онемевшим сердцем спешит в избу. Его нет. За сеновалом — телега, между оглоблями валяется кнут. Даже в сарай телегу не затолкал. Вбегает на сеновал, но и здесь пусто. Глаза невольно поднимаются вверх, скользят по балке. Тьфу! Глупее мысли быть не может… Топчется на месте, смотрит в ту сторону, где хлев. Там ничего не изменилось, но что-то и не так, как она оставила. «Лестница!» — наконец-то вспоминает она. Когда слезла, забыла прислонить к кладям, как всегда делала. И вот ее нет на старом месте. Ни у чердака хлева, ни возле сена. На всем сеновале нет лестницы… Она выходит с сеновала, заглядывает в сарай. Вот где она! Засунута у самой стены за доски, только конец торчит.
…Кяршис в хлеву. Стоит возле коров, поглядывает на потолок. В руках вилы. Аквиле не сразу замечает, что это не навозные, а двузубые, на длинной рукояти, которыми женщины подают наверх солому, когда метают стог.
— И-эх, и-эх… И эта объявилась! — стонет он, увидев Аквиле.
Она что-то лепечет, ошарашенная выражением его лица. В первый раз видит его таким. Нет, видела уже — когда на крестинах Лаурукаса он бил Кучкайлиса.
— Я к своим ходила… — наконец удается ей справиться с трясущимися губами. — Говорили, нашу буланку забрали…
Его взгляд летит к ней, словно пущенные изо всей мочи вилы. Подавился словом, двигает челюстями, жует что-то.
— Буланка, и-эх, ей только буланка… — вытолкнул наконец изо рта. — Только буланка, ага, и все… Ей только…
— А что же еще, Пеле? Лошадь нынче… — Она замолкает; его лицо просто страшно. Куда-то делись глаза, щеки, подбородок. Один дергающийся рот.
— И-эх, дожил, ну и дожил! — гремит он. — Чтоб жена меня обманывала! За кого ты меня принимаешь? Может, я слепой и глухой, не вижу, что дома творится?