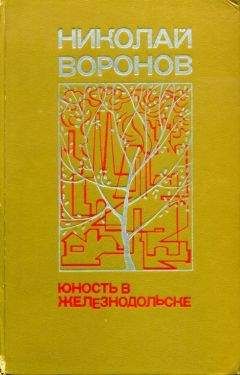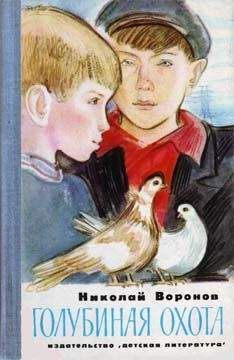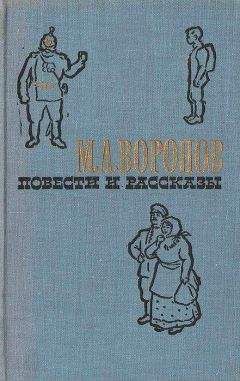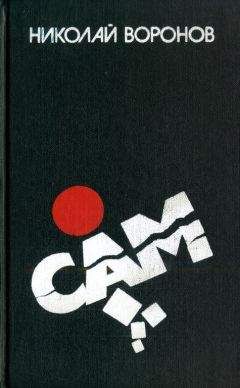Николай Воронов - Котел. Книга первая
Через будочное окно и облегченно и с досадой на себя увидел подле «Москвича» отца и Полину. Григорий говорил им о том, что, покуда ехал из города, дважды вставал: глохнет мотор.
В его разговоре и в том, как он взглядывал на них, ничего, кроме дружелюбия, не было. Они стояли рядом с Григорием и озабочивались тем, что машина забарахлила, как могут стоять только люди, у которых перед ним совесть совершенно чиста.
Андрюша пошел посмотреть на всех троих вблизи. Догадывается Григорий о чем-то, страдает из-за этого — от него, Андрюши, не ускользнет. В и н о в а т ы они перед Григорием, — тоже через что-то выявится. Не может быть, чтобы их скрытность была такой бессовестной, что ничем не обнаружится в их глазах.
Как ни следил за поведением отца и Полины, ни в чем не выказалась их вина. Глаза были так ясны и невинны, словно они всегда поступали чисто и еще несколько минут тому назад не стремились к чему-то скрытному.
Если это никогда не подтвердится — он будет счастлив, и тогда же проклянет свою мнительность. Но если это подтвердится, то он не представляет себе, как ему думать о людях. Кто они есть, если так умеют неуловимо гнусно, неуследимо спокойно п е р е в о р а ч и в а т ь с я.
Григорий собирался опрыскивать крыжовник, но Никандр Иванович предложил ему выпить, и он согласился «через не хочу», потому что Полина сказала:
— На работе работаешь, в саду работаешь. Кругом работа. Передышку хоть сделай.
— Я люблю работать. Передышка. Все.
— Любишь ли, не любишь ли… Втравился, — сказал Никандр Иванович. Он был доволен, что нашел сотрапезника. Подобно большинству мужчин, среди которых вырос и прожил почти до пятидесяти лет, он не мог вынести полухмельного состояния: обязательно должен был д о б а в и т ь. Наедине он не умел пить. — Работа такая же отрава, как водка: никак не отстанешь.
— Верно сказал. Все. Одно различие. От работы веселеешь, от водки грустнеешь.
— У меня наоборот.
С молодой легкостью Никандр Иванович принес водку. Пока стояли около будки, он маскировал полой пиджака оттопыренный бутылкой брючный карман.
Андрюшу обычно смешило, что взрослые мужчины, будто какие-нибудь школьники, как-то воровато стараются спрятать бутылку с водкой. «Чего они боятся или стесняются?» Ему было невдомек, что многие из них сами не задумываются над тем, почему хоронят «сучок» от непричастных глаз. Его наблюдение и теперь не оформилось в определенную мысль. Просто он представил себе, какими красавчиками и умниками бывают они, н а б у з о в а в ш и с ь. Позже, когда отслужил в армии, женился и постиг изнутри действие древесно-картофельного зелья, он объяснил упрятывание водки подсознательным проявлением совести, а также тем, что перед в о з л и я н и е м невольно «грезятся» питухам их послезастольные причуды и подлости.
Никандру Ивановичу до того хотелось улизнуть с бутылкой в будку Рямовых и д о б а в и т ь, что он буквально гарцевал подле крыльца, пока Григорий осматривал кусты крыжовника, тронутые налетом мучнистой росы.
Рямовы и отец зашли в будку. Полина звала Андрюшу отведать запеченных в сдобном тесте карасей, но Андрюша, хотя и голоден был и знал, что на редкость вкусна ее стряпня, отказался, дабы она помнила, что он неспроста ведет себя настороженно, с неприязнью.
Поплелся к своей будке, но свернул на дорогу: возвращался Оврагов, направляясь к белому домику, где находилась его квартирка и контора садов.
Оврагов спросил Андрюшу, поравнявшись с ним и не задерживаясь, не сердит ли он на него за непрошеную заботу. Андрюша сказал, что нет, не сердит, что, как всякий зависимый человек, с которого большой спрос и которого забывают вознаградить за старания, он нуждается в защите.
Андрюше было стыдно за отцовы давешние нахальные и вероломные вопросы и подначки, и он попросил Оврагова позабыть об этом. Это удивило Оврагова. Он не из мстительных людей, но и не из тех, кто проглатывает оскорбления, как утки рыбешек. Бесчестие ненавистно ему. Отсюда и то, что он не в силах не помнить о надругательстве, от кого бы оно ни исходило.
— Алексей Сергеевич, я не понимаю, чего он… Вы только вошли.
— Могу лишь предполагать. Не похожий, сохраняю себя, — значит, враждебный. Благо, что скопом не нападают.
— На вас?!
— На меня. Я тоже так думал. И не за то, что в чем-нибудь был плох, а именно вопреки этому. Сказать, что это закон взаимодействия людей, остриженных под нулевку или старающихся постригаться под нулевку, с людьми, которые носят челку, чуб, бороду… Сказать этого не могу. И вместе с тем, увы. Тебя, верится, минует… Жизнь перекраивается. Барометр показывает «переменно».
— Не заступайтесь за меня, Алексей Сергеевич.
— Хоть он в правлении садов, ничего мне не сделает.
— С вас хватит.
— Потому ты и подталкиваешь меня к осторожности?
— А какой толк, что вы насчет меня сказали правду?
— Правда продолжается.
— Кого ни возьми, все — правда да правда. А ведь редко кто не врет. Неужели ложь тоже необходима, раз без нее никто не обходится, кроме, наверно, вас?
— И я не исключение. Во всем возникает неизбежность. Видать, отсюда закон взаимодействия противоположностей. Правды и кривды. Жизни и смерти. Плюс и минус. Мужской и женской особи. Инертных веществ и активных. Тепла и холода. Формы взаимодействия многообразны: равновесие — борьба, распад — союз. Причем равновесие сопровождается неравновесием, борьба — примиренчеством, распад — зарождением. Недавно профессор горного института рассказывал, что в объеме страны у нас гибнет от ржавчины и коррозии три миллиона тонн черных металлов. Гигантская потеря для народного хозяйства. И казалось бы, естественная: сколько существует железо, столько существует ржавчина. Но в некоторых сплавах оно не ржавеет, гальванизированное отдельными металлами дольше не ржавеет. Созданы вещества, называются ингибиторы… Пленка из них, нанесенная на сталь, — надежная защита от коррозии и ржавчины. Профессор полагает: наступит время, когда ни один грамм металла не будет гибнуть от них. Верно. Жизнь кривды, конечно, неотвратима. Но под напором личной и общественной совести человека она будет убывать. И все-таки она вечна.
— Как?
— Впрочем, ничто не вечно. Я имею в виду, что она исчезнет с исчезновением человечества.
— Человечество не исчезнет.
— Милый, целые галактики гибнут.
— Человечество не исчезнет.
— Твой возраст прекрасен тем, что он дарует чувство бессмертия.
— Тогда, если мы исчезнем, зачем болеть за правду, добиваться справедливости?
— Поразмышляй самостоятельно.
Андрюша оторопело потоптался на одном месте и пошел обратно. Не было для него человека авторитетней, чем Оврагов. Обычно он относился к его словам с полной верой, а теперь, когда впервые в них усомнился, вместо того чтобы обрести силу от несогласия с Овраговым, испытывал скорбное отчаяние. Если даже вечна ложь и человечество когда-нибудь да исчезнет, неужели нельзя было обнадежить?
— Обожгло? — крикнул Оврагов. — Хорош правдолюб.
7
Дорога была пепельной — побурела, была листва зеленой — чернотой отдает, ярко выталкивались из садов крыши маленьких домиков — сумраком подернулись, а те, что подальше, слились с купами деревьев: туча закрыла солнце. Массивная, она завивалась по краям, на днище как бы распарывалась по невидимому шву, — так ровно отслаивался и распластывался в стороны гладкий низ. Но солнце в этот развал не высвечивало: толста была туча.
Все ниже свешивая голову, брел Андрюша по дороге. Казалось, что в душе его, где недавно, хоть крошечное, хоть сквозь облачность, но сияло солнце, тоже создалась туча и образовала угрюмую тень.
С каждым шагом все горше было сознавать открытый смысл овраговских рассуждений. Почему-то не вставали рядом в уме, не желали переплетаться ложь и правда, смерть и жизнь. И никак не мог примириться он с тем, что человечество конечно, как всякий биологический вид. Нет, нет, неправильно. Люди будут бессмертны, сделают себя бессмертными. И сделают вечными самых красивых птиц, зверей, рыб, домашних животных. Не исчезнет, не исчезнет лошадь. И выведут такие карагачи, березы, лиственницы, которые будут жить тысячами лет, подобно баобабам.
Притихла округа. Сникла листва садов, попрятались в улья пчелы, ютятся под крышами воробьи, шаровидные — наершили перо. Одни стрекозы нарушали тишину трескучим шелестом. Они кружили, покачиваясь, как на волнах, сцепливались комом, падали в камышок. Андрюша завидовал стрекозам. Улетел бы куда-нибудь далеко, где река, лодки, серебряные ивы. Поселился бы там, а потемнело бы на душе, как сейчас, взмыл бы свечой вверх — и в омут.
Когда Андрюша подошел к будке, край тучи озарило, вскоре из-за него высунулся горб солнца и сразу засверкал дождь. На западе струи были оранжево-розовыми, на востоке голубыми, посредине белыми.