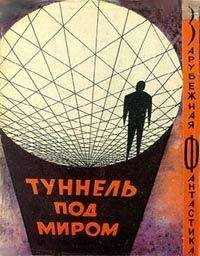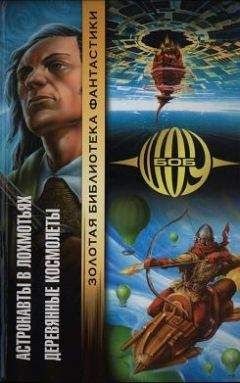Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Надежда, ярость и нетерпимость выстраивали в своеобразную цепочку затасканные, лозунговые слова Майштаса, придавая им силу, свежесть и живость.
Порой Таутгинас и сам не чувствовал, как ноги несли его к той женщине, но… Привычные сцены ревности, упреки, раскаяние… Как все это ему противно! Опомнившись, он замечает две рюмки, стоящие на столике, початую бутылку вина, красноватый свет с улицы, заливающий уставленную цветами комнату. Дом Каружене стоит у самой улицы, напротив забегаловки, и порой слышно, как оттуда с шумом вываливаются пьяные, как тарахтят по мостовой телеги и цокают подковами лошади. Телеги и запоздалые пьяницы, кажется, вырастают между ней и Майштасом, и тогда вдруг глубокая пропасть разверзается между ними. Мало того, заслышав какие-то важные, полные для нее одной какого-то значения звуки, Каружене встает, направляется к окну и вслушивается в тишину. Чего она ждет? Кого надеется встретить? Зрачки ее расширены, лицо озарено тусклым светом уличного фонаря, рука, придерживающая занавеску, неподвижна, и такая тишина окутывает все вокруг, что, кажется, она крошится и в ней трескаются листья фикуса, потом тишину снова разрывает пьяный окрик или грохот тележных колес, летящих под гору, как в бездну…
Но вот Каружене неслышными шагами приближается к нему, осторожно трогает рукой его лицо, гладит голову, лежащую на мягкой подушке, ерошит волосы, прикасается к губам… Не обижайся, не гневайся на меня, не ярись. И ревновать нечего — я твоя, хоть, может, и скверная, но… Я знаю, тебе нужна не такая женщина, прости меня, шепчет ее рука. И ему передается трепет ее тела, успокойся, говорит она… Ты так устал, ты совершенно измочален, я твоя, я с тобой, успокойся, хоть на минуту. Ее душистые волосы шелестят, покрывают его лицо, губы сливаются воедино, превращаясь в один бесконечный вожделенный рот.
Порой он отстраняет ее руку. И тогда в ночи раздается всхлипывание и мнится: кто-то скачет на лошади, где-то цокают подкованные сапоги. В сосновой роще, там, где кладбище, гремят выстрелы. Разве она не отомстила своему мужу, повязавшему на рукав белую повязку? У Майштаса не было сил оттолкнуть ее, а может, не только сил, но и права, к тому же, ему жалко ее. Она такая же беспризорная, непонятая, окруженная со всех сторон бюрократами, такими, как тот районный деятель, по уши заваленный бумагами и кричащий: «Я! Я!» Только уж слишком она наряжается, прихорашивается, слишком любит себя — как же ее перевоспитать? Да и к другим мужчинам льнет. Почему?
— Я чуть ли не на десять лет старше тебя, — сказала она однажды, когда Таутгинас сорвался и напустился на нее. — Все равно ты от меня уйдешь, хоть и сам пока в это не веришь, пока этого не знаешь — я для тебя как путы. Ты сам себя не знаешь, Таутгинас.
Но разве такие слова могли убедить мужчину, который был готов ради нее на все?
— А кроме того, — усмехалась она, — для тебя любовь только пережиток прошлого, ты сам так говорил.
Он приходил к ней, думая, что приходит не надолго, только взглянуть, как она живет, одолжить книгу, перемолвиться словом-другим, а проводил у нее дни и ночи. Каружене сама начинала искать его, если он долго не показывался.
Как говаривал Вигандас Мильджюс, под грозной маской владыки скрывался другой Майштас, настоящий, отвергающий всякие обязательства и расчеты. Его натура все время устраивала ему ловушки. В то время, когда он, еще не зная, куда пойдет, брился, одна его натура знала, куда он направится, что будет делать; знала, почему он петляет по глухим улочкам, где может встретить Каружене. Какие бы громогласные заявления он ни делал, как бы ни разглагольствовал, его тайные наклонности и желания находили уйму предлогов, о которых разум не догадывался, невольно брали его под руку и вели, а ему потом оставалось только возмущаться собой и удивляться. Иногда бывает так, что чем сильнее воля, решимость, тем эта скрытая сила, живущая в тебе, коварнее. Даже воздух местечка был пронизан для Таутгинаса сокровенной сутью этой женщины, даже осенний, клубящийся над землей туман волновал его, словно это было ее дыхание. Таутгинас, по словам Вигандаса, олицетворял собой внутреннее поле борьбы, но отнюдь не победу. То же самое относилось к его поэзии: полное обезличивание являлось только иллюзией. Бежать от себя, отречься от себя, зачеркнуть себя человек не в состоянии, как бы он ни старался. Порой такое самоотречение — не что иное, как обратная сторона самовозвеличивания.
Но мы знаем, что Вигандас Мильджюс не питал особой симпатии к Таутгинасу Майштасу, знаем, как однобоко понимал он некоторые явления…
В эту минуту Майштас с папиросой в зубах, в длинном пальто, в широкополой шляпе, шагает по мостовой. Прохожие здороваются с ним, и он в ответ приподнимает шляпу. Майштас останавливается у доски объявлений, на которую какой-то оборванец наклеивает нарисованную им афишу. Таутгинас останавливается, заговаривает с пацаном, протягивает ему пригоршню леденцов, пятится от доски объявлений и любуется наклеенной афишей. Вдруг до его слуха доносится звук стрекочущего моторчика у мельничной запруды — непривычно звонкий в белесом тумане. Стучит, как пулемет, думает Майштас, прислушиваясь. Этот моторчик приводит в движение пилораму — даже здесь Таутгинас чует запах живицы и древесины. А может, это пахнет еловый гроб, который Таутгинас нес несколько недель тому назад, когда они хоронили Берженаса, убитого людьми Мильджюса?
Звуку моторчика за местечком вторит фырчащий на расхлябанном от дождя глинистом холме трактор, — все это когда-нибудь Майштас восславит в своих стихах. Но теперь не стихи у Таутгинаса на уме: надо как можно скорее рассеять ползущие по местечку слухи о Каружене и успокоить свое сердце, которое так бешено колотится. Майштас направляется к Юодке, прямо в штаб народных защитников.
Юодка сидит за столом, края которого закоптели от папиросного дыма. Рядом с ним — пистолет, ремень. На другом конце стола — Скарулис, приземистый, плечистый, с заострившимся носом и впалыми щеками. Наверное, он и пустил эти слухи по местечку — был у Ошкутиса, и тот, видно, сболтнул лишнее. С нескрываемой обидой Майштас смотрит на Скарулиса, на его большие кирзовые сапоги с загнутыми краями, на ремень, опоясывающий впалый живот, переводит взгляд на Юодку, который навалился на стол, — но тот словно его не видит.
— Садись, гостем будешь, — бросает Юодка, не поднимая головы.
Майштас швыряет в угол свою шляпу.
— Не в гости к вам пришел.
— А зачем? Теперь, когда такие делишки всплыли, ты у нас только гостем и можешь быть.
— Какие делишки?! Черт побери! Ну, я вас всех!.. Этот задрипанный козел Ошкутис!.. К стенке бы его! Ведите меня к нему, да поживей, я ему покажу! Ах, ты!..
— Погоди, не ори, переведи дух.
— Ты, — поворачивается Таутгинас к Скарулису, — эти сплетни по местечку пустил?! Баба. А еще с винтовкой.
— Вижу, сегодня нам не договориться. Уходи, — говорит Юодка.
— Пусть он уходит!
Юодка машет Скарулису, и тот, горько усмехнувшись, скрывается за дверью.
— Пошли! — снова теребит Майштас Юодку.
— К Ошкутису? Никуда я не пойду. Он тут ни при чем. Каружене, чертова баба…
— С три короба наврал… Юодка, неужели ты не понимаешь, что Ошкутис, желая выкрутиться, с три короба наврал? Вот лис… Знаю я таких!
— Ошкутис сундука и не открывал.
— Тогда на кой ляд прятал?
— Разве его поймешь, такой уж он человек — сам не знает, что у него в доме и чего ему надо.
— Э-э, — морщится Майштас. — Я ведь говорил: всех их надо раскулачить, чтобы у них ничего своего не было. Иначе конца не будет! Видишь, что делается: та же нить тянется от одного к другому. Вытрясти бы из них все бациллы. В баню бы всех и парку бы поддать! Глядишь, людьми бы стали.
— Ты кончил? Поговорим лучше, что нам теперь делать. Ты, значит, даже мысли не допускаешь, что Каружене позарилась на этот сундук? Ведь она любит прифрантиться…
— Не допускаю. Не такая она. И ты, Юодка, эту мысль из головы выбрось.
— Погоди, — вдруг спохватывается Юодка. — Не по ее ли подсказке ты сюда пришел?
Юодка внимательно оглядывает собеседника, который сидит потупившись и разглядывает носки своих ботинок.
— Ведь так? Признавайся.
— Ни о чем она меня не просила, только бросилась ко мне со слезами, — говорит Таутгинас, вдруг сжав кулаки.
— И ты ей веришь? Веришь ее слезам?
Таутгинас качает головой: ничего он не понимает, не знает, кому и верить, если уж такая женщина на этот сундук позарилась, если… Нет, это понять он не в силах, это не умещается в его голове, ведь он ей так верил, это, пожалуй, последняя капля, переполнившая горькую чашу. Последняя!
К ним бесшумно, с бутылкой водки в руке подходит Скарулис — видно, Юодка незаметно сделал ему какой-то знак, и мужичонка тотчас все понял. На столе появились три стакана, кружок колбасы, чеснок… Скарулис испуганно поглядывает на разговаривающих друзей: рука Юодки покоится на плече у Таутгинаса, командир отряда наклоняется — ему хочется заглянуть Таутгинасу в глаза. В окне, к которому Майштас сидит спиной, видны берег реки, поникшие вербы и ольха, банька Савицкаса, вокруг которой носится детвора.