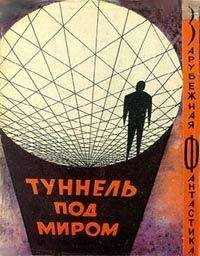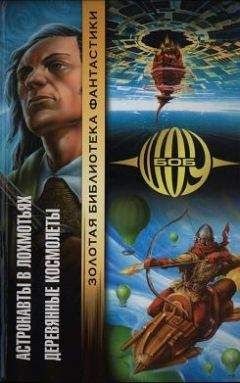Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
Пинок тут же заставил его замолчать.
— Уй-уй-уй… уй-уй-уй, — вопит Ошкутис, катаясь во дворе у поленницы.
Его, стонущего, волокут к телеге, связывают руки, ноги. Потом люди Юодки направляются за сундуком, по дороге из него выпадают какие-то вещи. Но Юодка притворяется, будто ничего не видит. Ошкутене бежит следом и кричит: возьмите, все возьмите. Чужого нам не надо.
— Ясное дело, возьмите, — бросает из телеги чуть оживившийся Ошкутис. — Пусть Каружене, эта к… — Но люди Юодки тут же затыкают ему рот, и телега с грохотом спускается по проселку с пригорка.
— Каружене… чертова баба, будь она неладна, — бесится Юодка. Всюду она лезет, все знает, всюду, куда надо и не надо нос сует. Мало ей того, что Таутгинасу Майштасу голову вскружила. К ней не один его боец подъезжал. Спору нет — смазливая бабенка, и смеется так, что кровь в жилах закипает. Попробуй удержись от такого соблазна! Ах, не кончится это добром. Только украшений из сундука ей не хватало!
После того как Каружене показала ему дорогу в бункер, где прятался ее бывший муж, перед ней все двери нараспашку. Но интересно, какую мину она состроит, когда все эти драгоценности бросят ей под ноги и спросят, откуда она про них знает?
Потом по деревне поползут слухи: мол, вызвали Каружене в волость, а она, бестия, выкрутилась, отбоярилась — не видала никакого сундука и никогда о нем с Ошкутисом не говорила.
— Как же не говорила, — скажет с обидой Ошкутис. — Намедни, когда я на лестнице забегаловки стоял, ты подошла ко мне, тронула за рукав и тихонько спросила: «Когда с сундуком пожалуешь?» Так и сказала — «пожалуешь». Сама, говорю, приезжай, только непременно средь бела дня, чтоб все видели. Как же я приеду, сказала ты, если там у тебя бандитское гнездо? Ты бы давненько этот сундук забрала, если бы не страх. Как сейчас помню свои слова, даже показать могу, как я стоял на лестнице. И Криступас Даукинтис может засвидетельствовать, он находился неподалеку, слышал — я говорил громко. Хоть он и не любитель подслушивать, о деньгах при нем не заикайся, но и то застыл, взнуздывая гнедую. Потом вошел в забегаловку и спросил, чего эта змея подколодная от тебя хочет. Гони ее взашей, сказал он. Может, забыла, что еще ты мне тогда сказала? — выговаривал Ошкутис Каружене. — Ладно, я тебе напомню. Ну, если на то пошло, сказала ты, я тебя, выродок, по миру пущу. Ты назвала меня, выродком, Каружене, и есть человек, который может это засвидетельствовать. Как тебе теперь не стыдно людям в глаза смотреть, — продолжал Ошкутис, глядя, как двое бойцов удерживают рвущуюся к нему Каружене.
Но больше всего слухов будет о том, как Юодка издевался над инвалидом Ошкутисом. Всякие там богомолки будут ахать да охать и молить господа, чтобы он покарал нечестивца. Такие слухи будет распускать и сам Ошкутис, кое о чем загадочно умалчивая, а кое-что и перевирая. Его самолюбие будут приятно щекотать слова скрывающихся у него от военной службы мужиков о том, что Юодка и Каружене понесут должное наказание.
— Вот вам и праведник, вот как он умеет обижать простых людей, а вот наше справедливое возмездие, — осклабится Миколас Мильджюс, протягивая чумазому подростку листовки, которые тот расклеит на стенах домов, деревьях и телефонных столбах. В них угрозы в адрес Юодки и Каружене за то, что они так поступают с ни в чем не повинным, богом обиженным человеком. От этого заступничества или сострадания Ошкутис будет пуще прежнего кичиться, а Таутгинас Майштас — злиться.
Сухой, чуть сутулый, ширококостный, Таутгинас жил не в деревне, а в местечке Ужпялькяй. Учителя, поймав на себе его взгляд, отводили глаза в сторону. Особенно избегал этого гимназиста учитель истории Вайтасюс. Чувствуя цепкий взгляд Таутгинаса, он долго листал журнал, дрожащими руками перекладывал какие-то бумаги, все не находил того, что ему было нужно, и, как бы моля о сочувствии, беспомощно поглядывал поверх очков на притихший класс. Горящий взгляд Таутгинаса словно говорил: знаем, что ты за птица, знаем, что брат твой — ксендз, а сам ты преподавал в гимназии, где тон задавали клерикалы.
Однажды Вайтасюс не выдержал: обозвал Таутгинаса сопляком, негодником. Он, учитель, повидал в жизни больше, чем Майштас, он восемь языков знает. «А ты, Таутгинас, кто такой? — тоненьким голоском закричал учитель, задетый каким-то двусмысленным и язвительным замечанием ученика. — Встань, когда с тобой разговаривают!» — кричал побагровевший учитель.
Но уже на следующем уроке в присутствии всего класса извинился перед Таутгинасом. С тех пор он стал избегать его взгляда. Оба делали вид, будто друг друга не замечают, обоим им, видно, досталось от секретаря апилинкового[2] совета Барткуса, который самолично вмешался в их конфликт.
Стихи и корреспонденции Майштаса печатались в газете. Майштас — близкий друг Юодки, комсорг школы. Всюду ему мерещатся миазмы буржуазного национализма. Говорит Майштас прямо, не скрывая своей ненависти к классовому врагу, даже раздувая ее. Гнев отступников его не страшит. Пусть бесится в своем бессилии враг, говорит он, пусть брызжет ядовитой слюной, я хватаю эту гидру за горло, яд ее на меня не действует: за долгие годы рабства в крови моих родичей накопилось достаточно противоядия.
По мнению Вигандаса Мильджюса, Майштас чересчур категоричен — его решения и поступки отпугивают всех, прямолинейность и отвлеченность некоторых высказываний не умещаются в голове Вигандаса. Но мы уже знаем, как не терпит Вигандас обобщений. Ему непонятно, почему Таутгинас рядится в такую тогу. Ведь Майштас по натуре не гордец, даже наоборот. Человек он добрый. Не прочь подтрунить над другими и над собой — такой он в частной жизни, с теми, кого близко знает, кому симпатизирует, кого считает своим другом, и совершенно преображается в официальной обстановке, там он полная противоположность. Как будто его подменили: сразу становится холодным, жестким, язвительным, особенно с теми, кто заденет его, пусть одним, неосторожным словом. В чем причина таких превращений — этого Вигандас никак не может взять в толк.
Это правда, что Таутгинас максималист. Один районный деятель в беседе с ним несколько раз употребил слово «я» — и этого хватило, чтобы Таутгинас покинул его кабинет, хлопнул дверью и поклялся больше не открывать ее.
Впоследствии именем Майштаса назовут в этом местечке улочку, высекут из камня его строгий мужской профиль. Время прилагало все усилия, чтобы запечатлеть его на камне истории решительным и непоколебимым. Его стихи будет декламировать ужпялькяйская детвора…
Своим поведением и манерами Таутгинас старается подражать одному известному поэту. И это ему к лицу, сказали бы многие из тех, кто видел, как пламенно выступает Майштас на собраниях, как читает стихи. Он полон презрения ко всему личному, хрупкому, сентиментальному, интимному. Какая-то часть его личности остается угнетенной, непризнанной. Он ведет с ней постоянную борьбу, лишив ее элементарных прав, может быть, поэтому она берет верх. Майштас влюблен во вдову Каружене. По ночам, когда в окнах местечка гаснет свет и в них стучится только бездомный бродяга-ветер, который трется плечом о стекло, Майштас, заложив руки за спину и вперившись в черное, как уголь, окно, где смутно отражается его лицо, саженными шагами меряет свою комнату. Какие только картины не рисует его взбудораженное воображение! Вот с ее округлых плеч спадает легкая одежда, Каружене смеется, откинув голову. Губы, белые здоровые зубы, плечи… Но… не он обнимает ее, не для него этот смех, переходящий в удушливый шепот. Майштас прислушивается, косится на окно, задергивает занавеску, садится за низкий столик, закуривает, берет перо и пишет. Последними словами честит он себя, безвольную тряпку, чуть не вывалявшегося в грязи, чуть не ставшего жертвой прихотей этой развращенной буржуйки. Но глаза… эти огромные, влажные, полные тайного страха глаза, вопрошающие о чем-то, порой пытливые, не скрывающие презрения…
Пьяные мужики склоняют ее имя на рыночных площадях, при одной мысли о ней плюют на лестницы забегаловок, тянут к ней свои руки, срывают с нее одежду, и еще чернее становится тьма, поблескивающая грязь, призрачный туман над крылечками; влага, до костей пробирающая влага и ярость. Вот с чем надо бороться, бороться за что-то святое, но до жути изгаженное и заплеванное, растоптанное, шепчет Майштас. Ярость и скорбь взывают к свету, жаждут простора, тоскуют по звонкому грохоту моторов, шуму турбин, ибо все вокруг тут такое вялое, медлительное, старое, кривое, покрытое пеленой алчности, отовсюду протягивает свои щупальца кулак, все старое вокруг надо уничтожать, надо все начать сначала, превозмочь вовне и в себе и выбросить на свалку истории. Всё — и кадильницы, и руту, и слезы, и картинки святых. Кончайте шептать молитвы, надо строить новую жизнь, радостную, светлую. Пусть тарахтят по заснеженным дорогам обозы, пусть на ветру полощутся плакаты. О, сколько еще всяких недотеп, сколько врагов, сколько слезливых сантиментов, которые яйца выеденного не стоят!