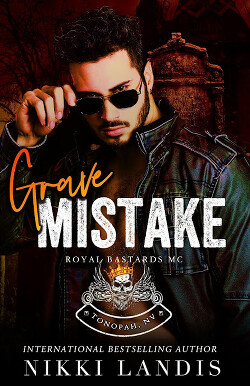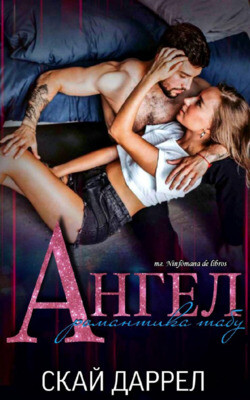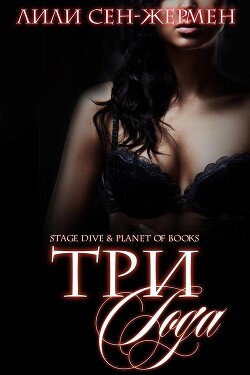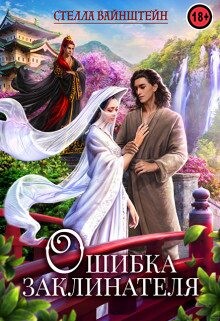Одна маленькая ошибка - Смит Дэнди
Джек напрягается.
– Родители выглядели такими расстроенными. Я просто невыносимо виновата перед ними. Нужно возвращаться домой. – В желудке снова начинает ворочаться ком, не давая нормально дышать. – Отвези меня обратно, пожалуйста. Я бы сама давно уехала, но у меня нет машины, и…
– Ты хочешь вернуться в Кроссхэвен?
Я киваю, и Джек смотрит мне прямо в глаза:
– Шутишь, что ли?
Его внутренний гнев проступает наружу – напрягаются мышцы, сжимаются пальцы у меня на плечах. Я уже открываю рот, чтобы попросить не давить так сильно, но Джек выпускает меня и, оттолкнув с дороги, проходит в дом.
Растерянная и смущенная, я не сразу отправляюсь следом. С кухни слышится раздраженный перестук дверей шкафчика, то открывающихся, то закрывающихся. Я решаюсь заглянуть туда. Джек стоит ко мне спиной, сжимая в руке стакан виски.
– Почему ты так разозлился?
– А сама‐то как думаешь, Элоди? – Он разворачивается, и я вижу, как играют у него желваки. Джек наклоняется ко мне, глядя в лицо: – Срань господня, я же говорил тебе, не смотри никакие новости про семью, совсем никакие! Так и знал, что ты начнешь домой проситься!
– Вообще‐то, я должна была «пропасть» всего на несколько дней, – напоминаю я, отступая на шаг назад, – а уже три недели прошло.
– Ты сама согласилась побыть здесь еще.
– Да, ведь ты сказал, что надо подождать, пока мои родители не согласятся провести пресс-конференцию. Ну вот, они ее провели, так что пора возвращаться домой.
– И как ты себе это представляешь, Эло- ди? – спрашивает Джек и добавляет нарочито-беззаботным тоном: – Завалишься такая домой, выпрыгнешь из машины: «Ха-ха, разыграла!» Или еще лучше: возьмешь фартучек и с утречка отправишься в «Кружку» на утреннюю смену, как будто вовсе не тебя половина чертовой страны все это время с собаками искала?
– Джек, не ерничай. Мы вполне можем действовать по плану: меня похитили, на преступнике была маска, лица я не разглядела.
Друг машинальным жестом ерошит собственные волосы и качает головой.
– Я хочу домой.
– Меня в полицейский участок таскали.
Я сглатываю, огорошенная такими новостями.
– Но ты же понимал, что тебя будут расспрашивать.
– Меня не расспрашивали, Элоди, меня допрашивали. – Он наливает себе еще виски.
– Но у тебя же безупречное алиби. Они не смогут доказать, что ты причастен.
– Тем не менее пытаются. Меня там вчера вечером шесть часов продержали, задавали одни и те же идиотские вопросы. – Джек от души прикладывается к стакану. – Меня подозревают.
У меня внутри все сжимается.
– Из-за чего?
– Без понятия. Но подозревают. И если ты появишься аккурат после того, как на меня как следует надавили, это будет выглядеть очень подозрительно. – Он неловко потирает затылок.
– Джек… мои родители абсолютно разбиты. Я должна их увидеть.
Он фыркает.
– Ты чего?
– Да ничего.
– В чем дело?
– Не бери в голову, Эл.
– Нет уж, рассказывай, что стряслось.
– Я не хочу причинять тебе боль, – сознается Джек после паузы.
Меня охватывает тревога.
– Джек, прошу тебя.
Он допивает остатки виски и смотрит в опустевший стакан, видимо решая, рассказывать или отделаться общими словами; он ведь знает, что я теперь не отстану.
– Это я убедил твоих родителей провести пресс-конференцию.
– Ясно…
– Твоя мать предпочитает отрицать очевидное. Даже насмотревшись на беспорядок в спальне и на паспорт, найденный при обыске, она настаивала, что ты просто уехала в отпуск. Видимо, поэтому и не хотела общаться с прессой. Я говорил ей, что надо выступить с обращением, и не только я один, но она никого не слушала. А потом я однажды зашел к вам и услышал, как твои родители разговаривают на кухне.
Я молчу, не перебивая его, потому что, судя по тому, как Джек напряженно поджимает губы, вот-вот услышу самое главное.
– И когда я услышал, о чем именно они говорят, у меня перед глазами почернело. Я был вне себя. – Он сжимает стакан с такой силой, что костяшки пальцев белеют, но когда я утешающе касаюсь его руки, слегка ослабляет хватку. – У нас вышел знатный скандал, Ада вызвала полицию, и вот тогда меня на допрос и потащили.
Я изумленно замираю, не в силах поверить.
– Ты поссорился с моими родителями?
– Ага. – Джек пристыженно отводит глаза.
– Но из-за чего? Что они такого сказали?
Хоть я совершенно не представляю, из-за чего они могли поругаться, меня не оставляет подозрение, что жизнь после этого уже не будет прежней. Я сжимаю пальцы Джека, молчаливо подталкивая его продолжать рассказ. Я хочу услышать ответ.
– Они сказали: мол, какое счастье, что это не Ада пропала.
У меня едва не встают дыбом волосы.
«Какое счастье, что это не Ада пропала».
Джек продолжает что‐то говорить, губы шевелятся, но я ничего не слышу сквозь шум крови в ушах.
«Какое счастье, что это не Ада».
Друг забирает пустой стакан у меня из руки и набирает в него воды из-под крана.
«Какое счастье, что это не Ада».
Он сует стакан мне, но у меня не получается его взять. Руки не слушаются.
Я вовсе не хотела соревноваться с сестрой, но мои родители хорошенько постарались. Они годами взваливали мне на плечи все больше ожиданий. Это ты у нас умница. Это ты должна добиться успеха. Это ты должна больше сделать, большего добиться. А потом Ада вышла замуж за Итана, а я бросила карьеру в Лондоне, и родители ясно дали понять: я проиграла в соревновании. Разочаровала их.
Мои друзья никогда не принимали всерьез мои жалобы о том, что Аду родители любят больше, и наперебой заверяли, что всякий думает, будто брата или сестру любят больше, а на самом деле мама и папа, как и любые родители, любят нас одинаково, потому что все родители любят детей одинаково. У них может быть любимый цвет, любимое время года, но не бывает любимого ребенка. Тот, у кого нет собственных детей, даже представить не может, что такое возможно. Понятно, что ни один родитель не сумеет ответить на вопрос, кого из детей он бросится спасать первым в случае смертельной опасности. Но мои родители, судя по всему, точно знают, кто у них любимый ребенок. Им даже вопросов об опасности не задавали, а они свой выбор уже сделали.
Джек был прав: первенца всегда любят больше.
– Элоди? – Джек убирает мне от лица свесившиеся волосы. – Прости, мне не стоило рассказывать.
– Все в порядке.
– Мне было очень неприятно слушать, как ты их жалеешь, когда они такого наговорили. Я просил Мередит надеть что‐нибудь черное, приглушенное, это было бы уместно, но им с Адой захотелось ярких цветов. Кричащих. – Он фыркает, морщась от одних воспоминаний. – Ты в курсе, что вечеринку в честь беременности Руби никто отменять и не думает? Они только о ней и говорят. Ну да, они за тебя переживают, но и вполовину не так сильно, как я ожидал. Так что им не так уж и повредят еще несколько дней без тебя. Может быть, если поиски затянутся, они наконец‐то проникнутся ситуацией.
Я в ярости, и это куда приятнее, чем ощущать себя нелюбимой и сломленной. Забрав стакан у Джека, я заявляю:
– Ты прав. Пусть катятся к черту, – и одним глотком выпиваю обжигающий виски.
Весь остаток дня и до поздней ночи Джек изо всех сил пытается поднять мне настроение, но я как жена Пигмалиона, вырезанная из слоновой кости. Абсолютно безжизненная. Джек говорит, что я любима. Старательно убеждает в этом, но мои уши – две закрытые раковины, не способные слышать. Тогда он вытаскивает с чердака старый проигрыватель, принадлежавший Кэтрин, и виниловые пластинки. Устроившись на ковре в гостиной, мы пьем вино и слушаем музыку нашей юности. Джек пытается создать атмосферу тех времен, когда все было гораздо проще, когда мы не изображали похищение, не прятались от полиции. Слушая, как The Temptation поют свою My Girl, я начинаю размякать, как свечной воск. Когда я была маленькой, мы с мамой танцевали под эту песню в гостиной – только вдвоем, – и я надевала ее белые туфли на шпильках.