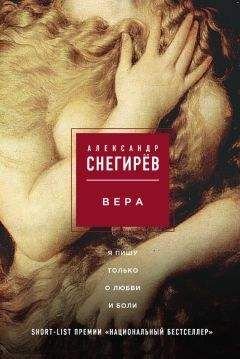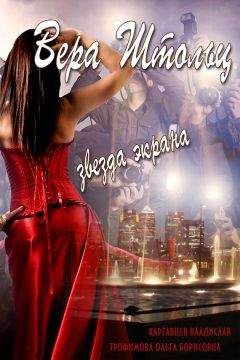Евгений Шкловский - Аквариум (сборник)
Так, наверно, могло продолжаться еще долго – сумбурная, беспорядочная, полубогемная жизнь затягивала, увлекала, он даже пописывать стал кое-что, без всякой конкретной цели – просто хотелось высказаться в связи с тем, что обсуждалось, – о природе человеческой деятельности, об уничтожающей самое себя цивилизации, о близящейся экологической катастрофе и месте человека в космосе. Задумывалось им как нечто философско-нравственное, а выходило сатирическое и политическое. Он даже отваживался читать вслух – и неожиданно встретил интерес и одобрение, хотя на кухоньках это было не так легко, народ судил нелицеприятно и строго. Там были свои лидеры, свои герои, на встречи с которыми приходили специально. Чтобы добиться внимания, нужна была судьба или, на худой конец, какой-то поступок, особенный, выдающийся. Нужно было пострадать.
Нет, в герои он, как и в страдальцы, не рвался, царствовать на кухоньках не жаждал, тем более что и случайных людей, каких-нибудь экстравагантных девиц, жаждущих подпольной романтики, или непонятых молодых людей, ищущих признания и успеха любым путем, просто авантюристов, жадных до щекочущих нервы приключений (а может, и стукачей – любимая, между прочим, тема), там тоже бывало достаточно.
Вообще, признаться, много там было невнятного, на этих обшарпанных кухоньках, как раз того, чего стремившийся к ясности Модест не любил и по мере возможности старался избегать. Многие друг друга втайне подозревали, обвиняли в нетвердости, в компромиссах, еще бог знает в каких грехах, много злословия и злопыхательства – непонятно почему. Кому-кому, а уж им-то друг другу завидовать было нечего. Все они были парии, изгои, в любой момент железная пята могла расплющить их. Им бы поберечь друг друга. А они мучили. И он, покидая какой-нибудь дом, знал, что в его отсутствие о нем будут судить-рядить, и вовсе не было уверенности, что справедливо. Крайне неприятно, но что он мог поделать? Разве не ходить. Но и в этом случае не обошлось бы без какого-нибудь домысла, который будет потом тянуться как шлейф.
Впрочем, люди разные, с некоторыми завязались действительно дружеские, искренние отношения. Но печать подпольности все равно ощущалась на всем, и гнилью иногда действительно попахивало. Вот почему нередко было не только смутно, но и мутно. Достоевщинки многовато. А Модест Ильич не любил Достоевского. Истерики не любил.
Бог его знает, почему так происходило. Словно противостояние государству обязательно (обязательно ли?) предполагало, даже обрекало не только на внутреннюю неустроенность и неприкаянность, но и на беспорядочность. Это при том, что люди на самом деле проявляли несомненное мужество. Это было благородно, на это как бы уходили все силы – на другое не оставалось.
Он и сам не однажды чувствовал глубокую душевную усталость – и от противостояния, и от всего прочего.
Несколько раз к нему наведывались из милиции, грозили высылкой либо еще чем похуже, намекая, что им многое про него известно, и если он не представит в ближайшее время справки с места работы, они примут меры. Его объяснения, что он не может найти работу по специальности, конечно же, звучали смешно и вызвали скептическую ухмылку. В стране, понимаешь ли, рабочих рук не хватает, а он, видите ли, не может. Пусть честно скажет: не хочет. На таких закон есть: кто не работает – тот не ест. Либо пусть собирает вещички. Все это обсуждалось вполне благожелательно, с полным сознанием собственной правоты и, главное, силы.
Модест поговорил с разными знакомыми, с тем же бывшим научным руководителем и в конце концов был трудоустроен – в неведомом заштатном НИИ лаборантом, с мизерным окладом, но довольно свободным режимом. Что ни говори, а удача: он как раз писал нечто по истории науки – про религиозный еретизм и его влияние на естественно-научную мысль. Физику он почти забросил, читал разные книги, большей частью исторические и философские, но и художественные, и даже сам пробовал… Впрочем, об этом уж точно никому знать было не нужно, тем более что и надежд на публикацию никаких. Да он и не совсем понимал, что у него получается. Это были размышления по разным жизненным поводам, в которые хотелось вдуматься поглубже, а вдумываясь, он почти всегда находил неожиданные для самого себя сопряжения, пододвигавшие к чему-то более существенному, можно даже сказать – сущностному.
Эти размышления были важны прежде всего для него самого – он как бы приводил в порядок свой собственный жизненный опыт, систематизировал, придавая ему отчетливость и ясность. Это было нужно для внутренней цельности.
Кое-что из этих заметок он давал, предварительно перепечатав на машинке, почитать друзьям, но только если, на его собственный взгляд, выходило нечто более или менее удобоваримое. А однажды ему принесли журнал «Грани», из тех, запретных, он не первый раз держал это издание в руках, не этот номер конкретно, а вообще, но в содержании именно этого номера вдруг увидел свои инициалы и сокращенную до двух букв фамилию. И еще ему сообщили, что эссе его читали по какому-то «голосу».
Видеть свою работу опубликованной было приятно. Но наверняка об этой публикации знали теперь и в соответствующем ведомстве (как попало? кто передал?), а Модест тогда еще не решил ничего кардинально. Начать печататься за рубежом означало впрямую идти на конфронтацию с властью. Теперь они знают, что он еще и бумагомаранием занимается. Снова эти игры в подполье, конспирацию – а он никак не мог избавиться от странного чувства фальши, игры, отчего возникали неловкость и даже стыд.
Как давеча со Славой, пареньком из их экспедиции. Конечно, никаким художником тот не был – это Модест Ильич сразу понял. Но разве это главное? Главное – что тот хотел запечатлеть, выразить, соединиться, главное – что смотрел. Что – пытался. Наверно, не надо было подходить к нему, не надо было тревожить, слова здесь – излишни. Тот уединения искал, а он к нему со своими одобрением и рассуждениями. Он это сразу ощутил – свою фальшь, да и говоренное ничего не стоит в сравнении с сосредоточенностью и усилием этого пацана. Впрочем, он ведь искренне. В том и парадокс: хоть и искренне – а все равно фальшь.
Этот молчаливый странный паренек с беспокойными глазами был куда подлиннее в своем молчании и тревожной застенчивости. А он, да, банален.
Тоже, между прочим, бич, преследовавший его, – банальность. Словно им были пережиты не одна, а много жизней, и многие ситуации, как и слова, казались банальными до пошлости. Попадать в такие ситуации и произносить подобные слова было мучительно. Хоть он и понимал, что, увы, неизбежно, – в жизни, какой бы уникальной та ни была, всегда будут такие ситуации и такие слова.
Он старался избегать их, впрочем, не очень удачно. Случай с этим пареньком – тому пример. Да и на кухне в разговоре с Артемом и Софьей. Нет, научиться правильно, отчетливо жить ему явно не удавалось – выходило, что он как бы играет. Всякий раз помимо его воли подмешивалось нечто постороннее, сразу все портившее, искажавшее.
Смутновато было на душе Модеста Ильича.
ЯБЛОКИБывает так, что сердце окликает кого-то, аукает, не поймешь, кого и зачем, только никто не откликается. И оттого, что никто не откликается, весь мир становится как пустыня.
Что-то щемило сердце Гриши Добнера, народ весь расползся неведомо куда, он один маялся в лагере, не находя себе подходящего занятия. Читать не читалось, мысли лезли отчего-то грустные. И было ощущение, неотчетливое, но довольно болезненное, что не случайно он один тут, задремавший на травке возле палатки. Мерещилось, что все его бросили, что просто не хотят с ним, не любят… Ведь нет ничего страшнее и тягостней чьей-то нелюбви, даже если она относится не к тебе лично и конкретно, а к тебе – как представителю определенной нации. Вроде как тебя обидели или хотели обидеть, а ты не ответил и даже не знаешь кто.
К тому же и один. Никто не позвал, не пригласил…
Между прочим, самое приятное время – послеобеденное, когда знаешь, что больше не нужно ехать на раскоп и весь оставшийся день принадлежит тебе.
Гриша не любил одиночества и человеком был очень даже компанейским. Это, правда, не всегда оказывалось кстати, потому что компании подбирались по какому-то неведомому ему принципу, так что он в какую-то минуту вдруг оказывался чужим.
Казалось бы, все вместе шли сражаться на деревянных мечах в заброшенный, полуразвалившийся бревенчатый дом неподалеку от их двора, предназначенный на слом, и он тоже шел, вооружившись отличной палкой, то бишь мечом, и щитом в виде крышки от мусорного ведра. Шел, полный рыцарской доблести и мушкетерской отваги.
Шел и шел.
А в конечном счете обнаруживал себя привязанным к балке в затхлом подвале, пахнущем прелью и мочой, обезоруженный и беспомощный, а все остальные удалялись, многозначительно посовещавшись и кровожадно поглядывая в его сторону. И только его приятель, неожиданно превратившийся в неприятеля, оставался стеречь жертву, а на Гришин наивный вопрос, что с ним собираются делать, с холодным ожесточением (Гришу всегда до глубины души поражали такие метаморфозы, словно в человеке жили сразу несколько) отвечал: а вот сейчас позовут девчонок, снимут с него штаны, и все увидят…